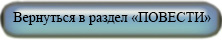
Глава 1
Маленький немецкий городок, именовавшийся прежде Гумбинненом, а теперь носивший имя боевого русского капитана, затерялся среди изумрудных полей древних прусских земель. Несмотря на стоявшую половину зданий в руинах, городок был так же аккуратен и чист, как и до поразившего его недавнего катаклизма войны. Охватываемый, как подковой, быстрой рекой со смешным для мальчишеских ушей названием Писса, он лежал в её лоне, будто забытый временем страз. А река, оживляя городок только одним своим присутствием, стала для Антона средоточием почти всех его интересов.
В тот год Антон, только что переехавший сюда с родителями, с жадным, неутолимым любопытством изучал окрестности кварталов, ставших теперь на некоторый период его жизни вотчиной и полем обширной деятельности. Слава же про них ходила недобрая. Бывший местом ожесточённых сражений, городок, как, впрочем, и все остальные на этой земле, был так нашпигован взрывчаткой во всех её мыслимых видах, что несчастные матери, оставляя без присмотра своих живчиков-сыновей, с замиранием сердца прислушивались к внезапно раздающемуся где-нибудь буханью. Что бы ни производило весьма знакомые звуки, отдающиеся в голове, словно стук сердца, – будь то хоть громы дальней грозы либо нечаянный выхлоп проезжей машины, – случившимся слышать их женщинам становилось дурно до обмороков. Что и говорить, поиски трофеев войны были главным занятием этой славной когорты бесстрашного пацанья. Некоторые из них становились жертвами своего увлечения, и каждый год останки железного призрака войны собирали свою скорбную дань.
Антон спервоначалу скептически относился к таким рассказам. В свои тринадцать он считал себя вполне самостоятельным и неглупым парнем. Тем более что частенько по семейным обстоятельствам ему приходилось в одиночку присматривать за своими братьями-малолетками. Пока родители, выясняя отношения, разбегались по разные стороны баррикады, он был и сторожем и нянькой, частенько решая жизненные проблемы своих братьев с помощью тычков и затрещин.
Будучи вспыльчивым субъектом, Антон не церемонился и со своими сверстниками, давая им понять, что верховодить собой никому из них не позволительно. Отсюда проистекало много разных сложностей в общении с пацанами. Но уважением, за независимость и крепкий кулак Антон всё же среди них пользовался. Тогда же появился у него закадычный дружок Витька по прозвищу «Чума». Он, будучи аборигеном, знал все места в округе и щедро снабжал Антона нужной информацией. Хитрый и юркий, небольшого росточка, Чума сразу же признал первенство над собой умного и крепко сбитого Антона. К тому же, страсть Антона к разного рода приключениям, просто-таки влюбила его в своего изворотливого приятеля.
Витька и сам обладал в сильной степени авантюрным складом характера. Непрочь иногда отчебучить некий фортель, он частенько бывал бит своим, весьма крутого нрава, папашей. Витьке, например, ничего не стоило умыкнуть полмешка картошки с добрым куском копчёного окорока, в придачу к изрядной куче других съестных припасов, которые заботливо хранила в подсобке его мать, прихватить своего огромного, чёрного, в рыжих подпалинах, пса и исчезнуть этак на недельку-другую. Надо сказать, родители Витьки привыкли к такому его режиму. Поначалу для острастки пороли ремнём, но оставались восвояси, ибо поделать с ним ничего было нельзя. Мать, отплакав своё в первые разы его исчезновений, полагая, что Витька либо утонул в быстрой Писсе, либо подорвался на шальном фугасе, решила про себя, – чему быть, того не миновать и успокоилась. Папаша и вовсе был только рад скинуть неуправляемое дитя на откуп природе, доверив воспитание оного мудрому провидению.
В общем, приятели, деля свои привычки на двоих, не худо проводили время. Если бы не досадные обстоятельства в виде посещения школы и непременное ежевечернее возвращение в родительские пенаты, их жизни позавидовали бы многие тысячи сверстников. Мать Антона, работая с утра до ночи, всё же умудрялась как-то контролировать его. Уроки, как школьные, так и музыкальные, она проверяла неукоснительно и ежели что было не так, Антон попадал под пару горячих соприкосновений с отцовским костылём.
Но всё это было пустяками по сравнению с той долгожданной свободой, от которой кружилась голова и живее струилась кровь по молодым жилам. Правда, частенько струиться ей приходилось из расквашенного носа, разбитых губ, а то из обширных порезов. Они, в качестве неминуемой дани доставались Антону от бурной деятельности по изучению и познаванию взаимоотношений с окружавшим его миром и населявшими его обитателями. После скучного белорусского местечка, где они проживали до этого, нынешнее место казалось Антону чуть ли не раем на земле.
По приезду на новое место жительство, Антон, в нагрузку по присмотру за своими братьями, получил статус взрослого, о коем мать с отцом, загруженные работой и собственными взаимоотношениями, объявили ему незамедлительно. Обретя это восхитительное чувство самостоятельности, он в полной мере использовал свой шанс. Правда, приходилось таскать за собой и братьев, но они не мешали ему, а для компании были даже иногда полезны, создавая видимость количества её. Самый младший был нежным и робким мальчуганом, никогда не доставлявшим ему хлопот. Средний же, бывший Антону погодком, строптивый и упрямый, не давал зевать и расслабляться.
Антону приходилось учить их уму-разуму и многим другим полезным пацаньим навыкам, что само по себе давало право иметь их на посылках и подхватах. Иногда он проявлял деспотичность и крутость нрава, отпуская братьям по малой толике затрещин и подзатыльников, о чем незамедлительно докладывалось матери. Спор решался всегда не в его пользу по вполне понятным причинам, кои, конечно же, Антону казались несправедливыми и смехотворными. Младшенький, как маменькин любимчик, был вообще неприкасаемой личностью, а погодок не удался здоровьем и по этой причине попадал в тот же разряд, что и младшенький.
Раздосадованный наказанием, а ещё более невозможностью повлиять на процесс воспитания своих братьев, Антоша исхитрялся доказывать свою правоту иезуитскими, но действенными методами. Потаскав их с полчаса по окрестным болотам, густо заросшими камышом и осокой, дав братьям вымокнуть, устать изрядно и получить по паре порезов, он с легкой душой отводил их домой. Вполне понятно, что они оставались там сушиться и лечить свои раны.
Выслушав от матери краткую нотацию, Антон, освободив свою свободолюбивую душу от балласта, как на крыльях мчался за дружком-приятелем. Чуму долго искать не приходилось, ибо он, как верный пёс, всегда ошивался где-нибудь поблизости. Они уходили в затопленные луга, исхаживая в день по десятку километров. Устав до изнеможения они падали без сил на первый же пригретый солнцем бугор. Мокрые, но невозможно довольные и счастливые, друзья долго молча глядели в небо, высматривая там быстрых стрекоз, проносившихся над ними с тонким свистом стрижей и серебряные черточки далеких, редких самолётов.
Такая вольница могла длиться почти круглый год. Мягкие зимы больше походили на лето где-нибудь в пермском краю, а уж про весну и осень нашим горячим натурам и заикаться не стоило. Вся ребятня, презирая местный климат, прекрасно обходились одним набором одежды, состоящей из рубахи и штанов, желательно попрочнее, чтобы можно было, зависнув на суку или соседском заборе не предаваться размышлениям, что устоит в противоборстве – забор или штаны! Презрительное отношение к утеплению собственного тела порождало вначале массовые эпидемии простуд. Но постоянным явлением это не стало. Насквозь промокшие, в одних рубахах и штанах, завернутых до колен, шлёпая босыми ногами где-то за городом, забывая, что на дворе октябрь, они резвились с такой энергией, что пар валил от них как из паровозных котлов. В конечном итоге, закалённые ватаги юных авантюристов только выигрывали от столь тесного противоборства с природой.
И, как всегда это бывает, голодные желудки и неутолимый, гипертрофический аппетит после многочасовых физических трудов, этот основной мотив и движитель, частенько заставлял многочисленные пацаньи оравы травить местные огороды и совхозные поля. Битвы на этом фронте между частниками и подхлёстываемой первобытным инстинктом насыщения юной плотью шли не на жизнь, а на смерть. Уж кто попался, – держись! Сеченые в кровь ягодицы несознательной молоди были цветочками в многочисленном ряду изощрённых методов борьбы с ними владельцев ограбленных огородов и совхозных сторожей. Дома тоже не жаловали этот вид деятельности, дополняя уже имевшиеся отметины свежими родительскими «увещеваниями». Но, как и все благие намерения, ничто не возымело над неукротимой жаждой самоутверждения! Изобретались доселе невиданные способы противостояния косной массе ненавистного частного сектора.
Особенно были в чести отстрелы кур и гусей. Для этого сооружались мощные луки и стрелы, с наконечниками из медных рубашек от пуль, россыпи которых в изобилии имелись в развалинах близлежащих домов. На оперение для таких стрел шли маховые перья крупных ворон. Они постригались по-особому, а поэтому придавали стрелам прекрасные аэродинамические качества, не говоря уже о шике. Немногочисленные умельцы, поднаторевшие в изготовлении такого чуда-оружия, были в особом почёте у всей мало-мальски знакомой братвы. Добытая с риском дичь, становилась вдвойне ценнее и оттого поедалась с особыми ритуальными действами. Действа были подсмотрены из редких в то время киношек про индейцев и ковбоев, а также частью почерпнуты из зачитанных до прозрачности листов приключенческих книжонок.
Среди достойной внимания добычи попадались вороны, голуби и прочая пернатая живность. Они, в сочетании с ободранными тушками лягушек, прошедших особый цикл обработки, считались валютой среди пацанья. Пара протухших лягушачьих тушек впридачу к зверски вонявшей трёхнедельной вороне приравнивались к одной стреле и наконечнику. Выменянная тухлятина срочно прилаживались на проволочные, обтянутые мелкой цинковой сеткой, круги, превращаясь, таким образом, в чудесные рачьи деликатесы. Эти приспособления, именуемые «раковушками», имелись в хозяйстве каждого уважающего себя мальца.
Писса, будучи быстрой, с кристально чистой, холодной водой, была прибежищем несметного количества особей рачьего племени. Эти огромные, сине-чёрные панцирные твари, рассматривающие речку, как своего рода рачий рай, были огромны до жути. Одного рака хватало, чтобы мужик, задавшийся целью хорошо посидеть вечерок за парой-тройкой литров пива, мог не задумываться о закуске к нему.
Раки обменивались в соседнем стройбате на файер-патроны, противогазы, сапоги, сапёрные лопатки, штыки, плащ-палатки, знаки различия, пилотки, звёздочки, и прочий нехитрый солдатский скарб. Кое-кому перепадало что-то и посерьёзнее, вроде десантных ножей и ракетниц. Раки и рыба имели исключительную ценность среди служивого люда этого славного рода войск, – как среди начсостава, так и среди вечно голодной рядовой братвы.
Будь у них что-либо повнушительнее, вроде танков, артиллерии, пацаны уже в первый же месяц разоружили бы и раздели эту часть до исподнего. Да и дома главы семейств многое прощали своим ушлым отпрыскам за одну только пайку вкусного, ароматного рачьего мяса к урочным часам отдыха. Одобрительно крякая после принятой порции пива с дымящимся оковалком, вынутым из клешни, отцы семейств в это время могли поставить, не глядя, свою подпись в дневнике под любым истошным воплем классного руководителя! Антон частенько пользовался этой лазейкой в отцовской душе. И чем больше была принесённая добыча, тем мягче становилась карающая длань родителя, ибо пропущенный накануне учебный день в школе неминуемо оборачивался «неудами» и жирными «колами» в замызганном и истерзанном неуемным обращением, дневнике!
Что тут поделаешь!? Искушение было непомерно для нестойкой детской воли и ноги сами заворачивали на Писсу, благо путь в школу пролегал по берегу этой проклятуще-соблазнительной реки! А уж мимо взорванного моста пройти без содрогания в душе и вовсе было невозможно! Там, на метровой глубине, в многочисленных лабиринтах бетонных обломков процветало самое отборное рачье племя. Мысли при виде этого благодатного места так и взвихривались! В их круговерти, отсепарированная мощным соблазном, оставалась только одна: «Вчера я был на географии… сегодня её пропущу… плевать, велика важность, география… вот физика за ней… как раз успею…». А на разбитых мостовых «быках», как назло, в это время сидел Чума и, призывно размахивая руками, орал: «Тошка, тут один, с мою руку, только что ушёл под этот камень! Давай быстрей!».
Не было сил устоять! Да и как устоять, если с вечера в портфель было уложена ароматная приманка, (разило от неё так, что собаки, учуяв нестерпимое благовоние от портфеля, держались около пацанов как пришитые), с расчётом после занятий как раз половить часок-другой именно на этих «быках», – искуситель не дремал! И вот к злосчастной географии прибивалась соседняя физика, а там, глядишь и остальные пара-тройка уроков.
Опоминались наши раколовы только тогда, когда несметные стаи воронья, с оглушительным ором начинала устраиваться на ночь в кронах деревьев по обоим берегам реки. Заходящее солнце, окрашивая багрянцем верхушки деревьев, бросало зловещие отблески на воду быстрых перекатов, как бы напоминая своим цветом о грядущей расплате. Мокрые по пояс, усталые, с затаившейся тревогой в душе приятели нехотя брели домой.
Но проходило время, забывались огорчения и неудачи, а река, как добрая ласковая рука, снова давала им своё утешение. В ней они смывали и боль и обиды, черпая всей душой в благодатных водах её силу духа и крепость для растущих тел...
Летом, в законные три с лишним месяца отдыха измученный тяжким учебным процессом Антон и вовсе не знал удержу. В придачу к основным боевым подвигам ему, как натуре деятельной и изобретательной, всегда удавалось сотворить несколько рисковых ситуаций. Их закономерным итогом становились и сломанная рука, и сотрясение мозга и утопление во время испытания мини-субмарины. Спас Антошу случайный прохожий.
Подложив свою кепку под его голову, мужичонка, тяжело отдуваясь от перенесенных усилий, мягко приговаривал: «Вот понесла тебя нелёгкая! А если бы никого рядом не случилось? Что бы ты делал? Раков бы развлекал? Вот дуралей так дуралей! И кто тебя только надоумил залезть в эту железную бочку? Самого бы его туда! Надо же, парня подучил, а сам где-нибудь сидит и потешается над этой мокрой курицей!». «Никто меня не подучивал», – слабым голосом выразил свой протест Антон.
Его обидело это замечание мужичонки. Как будто он и сам не в состоянии придумать такую штуку. «Вот-вот, я и говорю», – перевернулся тут же его спаситель. – «Если бы тут кто-то учил, как следует уроки, то знал бы, что железные бочки с дырами тонут точно так же, как и топоры!» «Не дыры это», – насупился Антон, – «а люки, только они протекать стали». «Протекать стали!» – покачал головой мужичонка. – «В голове у тебя протекает. Дожил до стольких лет, а простых вещей не знает! Если ты и дальше так будешь транжирить свою жизнь, то я и дырявой бочки, которую ты утопил, за неё не дам! Понял меня?»
Странное дело, но Антон вдруг почувствовал, как в его наполненной гулом и звоном голове, появилось неуловимое, и, вместе с тем, сильное желание согласиться с ним. Не было обычного чувства противоречия. Не было даже подспудной мысли об этом, было только чувство подчинения, без размышлений и анализов «почему да как». Он молча кивнул и закрыл глаза. Мужичонка толкнул его в плечо: «Идти можешь? А то до дому провожу!». Чума, сидевший рядом, серьёзный и насупленный, с готовностью оживился: «Конечно, дядь, сщас пойдём. Тошка, побегли, а то дома влетит!».
Антон приподнялся и сел. Насквозь мокрая одежда стала тяжёлой и неприятно липла к телу. Голова ещё кружилась, противная дрожь заставляла ноги ходить ходуном. Но казаться слабаком ему не хотелось. Уцепившись за друга Антон встал. Ему вовсе не улыбалось, чтобы этот дядька рассказал матери с отцом об его утоплении. Антон представил себе их реакцию и это показалось ему пострашнее случившегося. Он хрипло прокашлялся и сказал: «Ну, это…, я ведь могу идти». Какой-то инстинкт подсказывал ему, что просто вот так уйти нельзя. Его только что спас от смерти этот дядька, и что надо что-то сказать, но что говорить Антоша не знал. И потому он, собравшись с духом, сказал: «А как вас зовут? Вы приходите к нам, но только не сейчас, а то мама догадается…».
Его спаситель, едва улыбнувшись уголками губ, оборвал Антона и потрепал по голове: «Ещё как догадается! Ты же мокрый весь. Идите-ка лучше вон в те кусты, отожмитесь, как следует, подсохните и бегите домой. Случай приведёт, мы свидимся с тобой. Ну, бывай, горе-матрос!» – и, повернувшись, мужичонка, на ходу выжимая пиджак, скорым шагом стал подниматься наверх, по крутому берегу.
Домой шли молча. Не хотелось разговаривать, – каждый из приятелей переживал случившееся по-своему. Но каждый точно знал одно – не будь поблизости этого мужчины, всё кончилось бы страшно и бесповоротно. Внезапно Чума остановился, как будто его дёрнули за рубаху: «Слушай, а почему около нас оказался только этот дядька? Ведь на мосту было полно людей, и по берегу их шло много. А нас как будто никто не видел и не слышал. Я ведь орал во всю глотку, когда у тебя там забулькало… Странно это, не думаешь?».
Антон остановился. С минуту он молча глядел себе под ноги, затем, кивнув головой, протянул: «Да-а, непонятно…». «Вот и мне удивительно», – тихо отозвался Витька.
Вечером, лёжа в постели, Антоша долго не мог уснуть. Ему всё представлялся сегодняшний случай. И никак не шла из головы удивительная загадка, высказанная Чумой. «Почему?..». Что-то не складывалось в его, отягощённой впечатлениями и переживаниями, голове. Как можно было вытащить его вместе с бочкой, (а она была не маленькая, литров двести, как уверял их Косой, когда продавал им её за пять рублей?!). Это ж какую силищу надо иметь, чтобы выволочь бочку, полную воды вместе с Антоном на берег!? Да и дядька-то был совсем не видный, тощий какой-то! А подмоги ни у кого не попросил, сам справился! Чудно это как-то!
Но самым удивительным, самым непонятным было то, что Антоша, как ни силился, как ни старался, никак не мог вспомнить лицо своего спасителя. Ему отчётливо представлялись и мятый, неразличимо-серого цвета пиджак, и его узловатые, удивительно тонкие, длинные пальцы, и кепка, такая же серая, словно подёрнутая пеплом. Он хорошо помнил платок, которым тот вытирал лицо и волосы Антоши, и даже его сапоги. И лишь лицо самого мужчины оставалось для него неясным, темно-серым пятном. Оно как бы вбирало в себя взгляд Антона, гипнотически усыпляя его, и он, не в силах противиться этой силе, погрузился в глубокий, спокойный, без сновидений, сон.
Наутро, едва встретившись с Чумой, Антон немедленно направился на свою тайную базу, где хранилась всякая-всячина и главное, только что отстроенная подводная лодка. Это чудо корабельного искусства было сооружено по особому проекту из огромной, вместительной железной бочки. Полтора месяца драгоценного времени каникул было принесено в жертву приятелями.
Наконец, настало время испытаний. Накануне они под честное слово раздобыли мощную тележку у местного угольщика и, водрузив на неё свой подводный корабль, намеревались с утра провести генеральные испытания. В качестве первого капитана должен был выступить Антон, а Чума оставаться на берегу и держать один конец толстой верёвки. Другой конец был накрепко привязан к «субмарине», на случай, если быстрое течение станет сносить её на середину реки.
Когда Антоша снял замок с дверной петли, распахнув дощатые двери, закрывавшие вход в обширную полуземлянку, темнота поначалу не дала приятелям насладиться фантастическим видом подводного корабля. Но едва неумолимые мгновения позволили, наконец, разглядеть внутреннее пространство временной верфи, потрясению Антона и Витьки не было предела. Подлодка, ещё вчера вечером красовавшаяся на тележке угольщика, исчезла, испарилась как сквозь стены. Если бы не подмости, красноречиво говорившие о месте сооружения их подводного судна, словно и не было славного корабля! Ошарашенные приятели молча обошли место постройки «субмарины», не веря своим глазам. Спустя минуту они, взглянув друг на друга, одновременно вскрикнули, что было сил: «Косой, гад, только он! Некому больше!..».
Всё исчезло из памяти мальчуганов, растворилось в ночном сне. Ни следа не осталось от трагедии, которая могла случиться с Антоном накануне. Начисто пропал из их памяти и день, и событие, и тот самый нечаянный спаситель, который так вовремя оказался рядом.
Глава 2
Жизнь Антоши и его приятеля, не могла, в силу их юного возраста исчерпываться только одной своей гранью. Река была в ней как-бы канвой, даже, в прямом смысле, географической, так как широко выгнутой дугой она охватывала почти весь город. Антону, как он сам считал, сильно повезло. Живя на окраине этого маленького городка, он имел самый тесный контакт, всего каких-нибудь полкилометра, с сей водной артерией.
Путь к реке пролегал по многим живописным местам. Одним из них был заброшенный комплекс бассейнов, выстроенных на открытом воздухе всего в полустах метрах от Писсы. Это было замечательное сооружение. Огромный плавательный бассейн с существовавшей когда-то, в лучшие времена, системой подогрева воды, с имевшимися при нём двумя вышками, был притягательнейшим объектом забав детворы всей округи. Система забора воды из поилицы-реки также пришла в полную негодность. Потому в особо тёплое время вода в бассейне приобретала ядовито-зелёный цвет. Такая мелочь не могла отпугнуть многочисленные ватаги аквафилов, тем более что бассейн перед речкой имел одно большое и неоспоримое, особенно в отсутствие солнца, преимущество. В нем всегда вода была тёплой, даже в затяжные пасмурные дни.
При своём большом собрате имелся также маленький бассейн, «лягушатник», который частенько служил палочкой-выручалочкой Антоше. Запуская туда своих братьев и строго наказывая им даже и не помышлять об отлучке, он с энергией молодого тюленя предавался водным утехам. Щекотавшие нервы прыжки с семиметровой вышки, «тарзанка» на берегу холодной Писсы и ещё неисчислимое количество придумок отнимали всё его внимание. И когда, спустя несколько часов, накупавшись до мертвецкой синевы на губах и невозможности произнести связно хоть одно слово из-за сотрясавшего все тело колотуна, вспомнив о своих младших, он находил их на том же месте. Правда, в ещё более укупанно-плачевном состоянии.
Вытаскивая из их волосёнок куски лягушачьей икры пополам с застрявшей там же нитями зелёных водорослей, Антон затем ещё долго растирал тощие, обтянутые пупырчатой кожей, скелетики своих подопечных. Вести домой их в таком состоянии нечего было и думать, и потому Антоша располагался тут же на мягкой, тёплой и густой траве. Младший, Димка, сейчас же засыпал, а оставшаяся троица, то бишь, оба брата и неразлучный Чума, предавались неспешным беседам, обсуждая животрепещущие темы.
По другую сторону, левее от этого главного направления, идя мимо казарм автобата и стройбата, можно было, перейдя речку по деревянному мосту, попасть в другое заповедное место. Это была огромная свалка разбитых, сгоревших, покорёженных и взорванных останков всевозможной военной техники. Танки, и наши и немецкие, вперемежку с истребителями и тяжёлыми бомбардировщиками дальней авиации, (поговаривали, что среди них лежит один из тех первых дальних, совершивших налёт на Берлин в первый месяц войны), бессчётное количество машин, мотоциклов и пушек, лежали у подножия рукотворных гор из стрелкового оружия, миномётов и прочей сопутствующей амуниции.
Всё это хозяйство, конечно же, охранялось, но кое–как, вечно пьяным, долговязым малым, лет тридцати. Он был малость не в себе и потому имел привычку пугать забредших на свалку пацанов петардами, которые в своих бесконечных блужданиях отыскивал в своём хозяйстве. Они попадали туда как списанные нерадивыми хозяевами, которым лень было возиться с документацией, а потом вывозить и уничтожать на полигоне, когда под боком располагались гектары непролазного железа.
Но не поэтому пацаны побаивались ходить туда. Слухи про это место ходили страшные. Говорили, что по ночам из–под разбитых останков выходят призраки солдат и бродят, освещая себе путь призрачными фонариками. Особо знающие, многозначительно качая головами, утверждали, что ищут те призраки свои сгоревшие танки и самолёты, и пока не найдут, не успокоятся. А того, кто попадёт к ним в руки, заставляют искать вместе с ними, да так, что бедолага, израненный острыми железками, истекая кровью, умирает.
Несомненно, самыми заинтересованными распространителями слухов были родители пацанов. Странное дело, мальчишки верили этим россказням и старались без необходимости не забредать на свалку. Да и то сказать, толкового там уж ничего не осталось, – так, скрученное, сгоревшее железо, от которого до сих пор со времён войны шёл тяжёлый дух оплавленного металла.
Имелись и иные достопримечательные места в округе. И самым загадочным, таинственным и наводящим мистический трепет среди них было заброшенное немецкое кладбище. По своим размерам оно не могло считаться большим, но Антоше и иже с ним оно казалось бесконечным со своими аллеями, проулками и проходами между красиво поставленными оградками и бетонными цветниками.
Спервоначалу оно пугало и вселяло боязнь, порождая в глубине души почтение, трепет и бог весть какие ещё неизъяснимые, тёмные страхи. Потом Антон, освоившись, обнаружил, что кладбище было местом ничуть не менее обжитым, чем жилой квартал, начинавшийся метрах в пяти через брусчатую дорогу. Дом Антона стоял всего в двух домах от кладбища и самый короткий путь на речку пролегал как раз через него. Идя на реку, Антоша всегда с любопытством, подолгу задерживаясь, рассматривал какую-нибудь скульптурную композицию, стоявшую у входа в склеп. Все склепы были давно разорены, но развёрзтая темь входа, ранее прикрытого плитой, все равно вызывала озноб в душе любого пацана. Оттого охотников залезать в эти каменные мешки находилось мало.
Некоторые из мальцов не находили в пребывании в таком месте ничего страшного. Часто можно было видеть, как из какого-нибудь склепа, превращённого в тайное убежище, вился дымок. Иногда, ради любопытства, Антоша с Чумой заглядывали туда. В сумраке подземья они видели внизу вполне обустроенное помещение, с лежанками, столом, непременными пустыми бутылками в углу и кострищем. Такой склеп служил многим целям, но лишь по вечерам. Днём он пустовал и только парни из соседней ремеслухи иногда отводили там душу за парой-тройкой бутылок дешёвого портвейна.
Меркантильный интерес к кладбищу имел практически весь окрестный люд. Старшее поколение с безучастным равнодушием разбирало все, что относилось к подобию стройматериалов. Добротнейшей работы, с красивым литым орнаментом из цветной гранитной крошки надмогильные цветники, десятками умыкались с кладбища, чтобы потом, измолотыми в щебенку, обнаружиться в фундаменте чьего–либо дома. Из них же, разбитых на плиты, были выстроены все близлежащие сараи, так что на многих из них можно было прочитать чью–либо эпитафию, выбитую красивым готическим шрифтом.
Антону, по роду занятий каждого пацана, шманая в компании Чумы из таких сараюшек мочёные яблоки вперемешку с солёными огурцами, часто видеть эти надписи. На самом кладбище эпитафии терялись в общем количестве впечатлений. Вырванные же из естественного окружения, они запоминались особенно, и любознательный Антоша первые свои эстетические впечатления от красоты печатного слова получил таким экзотическим способом.
Все рельефы, барельефы, горельефы и так далее, по мере возрастания объёма гранита и мрамора, содержавшегося в них, вплоть до двухметровых статуй и резных фризов, украшавших фамильные усыпальницы, без разбору изымались со своих мест прописки и увозились в неизвестных направлениях. Литые чугунные ограды, скамьи и столики, резной работы фонарные светильники по углам аллей и проулков также были давно убраны теми же заботливыми, рачительными руками. И то, правда, не пропадать же добру неизвестно зачем в этих богом забытых местах! Вот и определяли новые хозяева всему ажурному металлическому убранству этого ненужного никому кладбища другие места обитания.
А то, что не понадобилось до поры до времени, сиротливо укрывалось за стройными рядами красавиц туй. Они как-то не укладывались в сознание местного обывателя, тем самым выпав из потребительского списка, а потому сохранились в первозданно-распланированном порядке. Никто их не рассматривал как нужную в хозяйстве посадку, – ни как ёлку к Новому году, ни как древесину на столярные работы, ни как декоративную зелень. Так, сорный, кладбищенский кустарник! А кустарник, избавленный провидением, а ещё особым менталитетом местного населения, разрастаясь, скрыл со временем от нескромного взгляда чудовищное разорение сего скорбного места. Он словно взвалил на себя нелёгкий труд врачевателя, желая умерить вину неразумных живых перед душами почивших здесь...
Что и говорить, видя усердный труд своих отцов по очищению местного некрополя от стройматериалов и антиквариата их отпрыски действовали не менее энергично. Эта деятельность являла собой и другой предмет их интересов. Как только с очередной могилы исчезало массивное надгробие, первая же, прознавшая про это событие, компания пацанов дружными усилиями срывала до основания могильный холм, до этого укрытый умыкнутым ритуальным атрибутом. С неослабевающим энтузиазмом, старатели дорывались почти до гробовых досок.
С радостными воплями, соединив в едином порыве свои усилия, пацаны выдирали из отверстой могилы прекрасно сохранившуюся мелкоячеистую цинковую сетку. Она была проложена по всем стенкам и заварена сверху. Для чего она была нужна, оставалось тайной забытого ритуала. Надо думать, этой сеткой живые хотели предохранить себя от лишних визитов усопшего родственника с того света. Сетки находили во всех могилах и, стало быть, запасов хватило бы её добытчикам на долгие годы. Сама же сетка представляла собой в глазах взрослого и юного населения города весьма драгоценный ресурс.
Особой любовью и пристрастием тогдашнего, надо сказать, довольно голодного времени, была среди населения страсть к разведению кроликов. Сетки для этого требовалось немереное количество и обнаруженные её залежи пришлись весьма кстати для изготовления замечательных и простых в обслуживании клеток. Так как аппетиты подрастающего послевоенного поколения росли не по дням, а по часам, то и клеток требовалось для удовлетворения сей надобности в геометрической прогрессии.
Эта добротная, оцинкованная сетка имела приличную стоимость, но деньги за неё не брали. Добытчики, правильно расценив реальное соотношение стоимости банкнот и живого товара, предпочитала брать натурой, а именно кроличьими тушками и их же выделанными шкурками. Промысел по официальным версиям закона являлся нелегальным, за что участковые карали провинившихся штрафом всё тем же кроличьим товаром. Но всё это была буря в стакане воды! Что там сетка в масштабах кладбищенского промысла, когда вывезли само кладбище! И потому самый тихий и незаметный приработок стал самым большим доходным местом вольных торговцев.
Эта сетка была для школьной братии совсем не абстрактным предметом, так как во всех городских школах интенсивно практиковалось разведение очень перспективных сортов кроличьей живности. А потому учащиеся разных классов должны были собирать траву для этой, до жути прожорливой ушастой оравы. В дополнение к этому каждый день все классы по очереди производили уборку сих ароматнейших мест обитания пушистых симпатяг. А вот куда девалось избыточное население затянутых цинковыми сетками клеток, было для всех сплошной загадкой. Правда, слухи о том, что директор реализует этот избыток в местную столовую, где завом работала его жена, были сами по себе страшно крамольными, и потому их не очень-то озвучивали, предпочитая кивать куда-то наверх с многозначительным поджиманием губ. Так или иначе, но обещанного кроличьего мяса к школьным обедам учащиеся так и не дождались. Для Антона, и для пацанов сетка была эквивалентом золотого запаса, ибо те раки, которыми так любили потчеваться их отцы, добывались раковушками, изготовленными из перепадающих им жалких остатков сеточного промысла.
В первые месяцы обитания около столь интригующе-таинственного места, притягивающего значительное внимание юного Антоши, он не решался заходить или надолго оставаться на территории кладбища. К тому времени оно уже потеряло весь свой цивилизованный вид и понемногу стало выглядеть заброшенным парком, где проводили какие-то земляные работы, да так и оставили. Расчищена была лишь одна главная аллея, по которой в дни отдыха дефилировали редкие парочки, да проходили на реку любители поплавать.
Приятели, спеша по своим делам, часто видели нагруженные тачки, тележки, подводы, а то и грузовики, с наваленным доверху кладбищенским ассортиментом. Мужики, красные от натуги волокли добытое по аллейкам, не обращая внимания на мелюзгу, шныряющую под ногами. В те годы такое отношение к наследию, отвоёванному у поверженного врага, не считалось зазорным. Победители, раздавившие фашистскую гадину, делали всё, чтобы искоренить и сами следы его на отвоёванной территории. А уж с таким памятным, сакральным местом для каждого «фрица», сам бог велел не церемониться! Чтобы и духу его здесь не оставалось! Мужики, пренебрежительно сплёвывая на могилки, делились друг с другом своей радостью по поводу вложенных в кладбище средств. Вот и таял некрополь с каждым годом, обнажаясь поруганными могилками, как больное тело язвами…
Велик пример старших и заразителен, особенно если он подогрет всеобщим энтузиазмом! Детвора, впитывая с сызмальства хозяйскую хватку своих родителей, в меру своих силёнок вносило в домашнее гнездо дармовую лепту. Ни одна мелочь не миновала их пристального внимания. То, что оставляли взрослые, подбиралось цепкими ребячьими руками.
Антоша не участвовал во всеобщем старательстве не в силу своей лени. Дома у него такое направление потребительского интереса напрочь отсутствовало. Иные приоритеты слагали семейную атмосферу. Вот, к примеру, если бы на кладбище обнаружились залежи книг или журналов, какие-нибудь пластинки с музыкой или картины, до которых сам Антоша был великий охотник, тогда, пожалуй, этим запасам точно бы не поздоровилось! Чума, отправляясь на добычу, часто просил Антона подсобить донести до дома какую-нибудь оградку. Антоша не отказывал ему в этом. Но Чума, замечая полное безразличие своего дружка к бесплатным дарам, с жаром убеждал Антона что-нибудь прихватить себе домой. И однажды ему удалось это.
Уж лучше бы он заболел в тот день ангиной или чем-нибудь ещё, но остался бы дома. Столько стыда и позора Антоше не приходилось испытывать в жизни никогда. Всё началось с полузасыпанной песком чугунной скамеечки, найденной ушлым Чумой возле какой-то разорённой могилки. С наигранным великодушием богатого мецената, Чума толкнул её ногой и небрежно сказал:
– Дарю, бери. – И с видом знатока добавил. – Вещь что надо, мамка твоя будет довольна. Ничего не ворохнулось тогда в груди благодарного Антона. В приподнятом настроении, отряхнув скамеечку от песка, он заявился с ней домой. Был субботний день и рано вернувшиеся с работы родители садились за стол обедать. Антона не ждали. Матери он сказал, что после школы пойдёт на рыбалку и придёт вечером. Он и обед с собой захватил, и поэтому его столь неурочное появление было встречено благожелательно. Скамеечку он оставил в прихожей. Желая немедленно порадовать отца с матерью, он, сказав, что сейчас вернётся, выскочил в коридор. Вбежав в комнату с принесённой добычей, Антоша, протягивая свою добычу, провозгласил:
– Во, смотрите, что я принёс! Красивая, на кладбище нашёл! – с гордостью добавил он, ожидая заслуженной похвалы и одобрения.
Совсем не той реакции ожидал увидеть от родителей Антон. Отец, поправив очки, внимательно посмотрел на Антона и сухо обронил:
– Подойди сюда, поставь…, – кивнул он на скамеечку. Хмуро взглянув на жену, отец сказал с усмешкой: – Вот, мать, гляди, какого добытчика мы с тобой вырастили!
Помолчав, он покачал головой и обратился к Антоше:
– Ты хоть знаешь название тому, что ты сейчас сделал? Это мародёрство и ты мародёр, то есть человек, который грабит мёртвых…
– Вася, ну подожди, он же не знал ничего…, – попробовала вступиться за Антошу мать, но отец, стукнув по столу ладонью, резко оборвал её: – Что значит, не знал!? Вот такие незнания и оборачиваются большими бедами! Голова есть, пришёл бы, спросил тебя или меня, тогда бы и узнал, что то, что он хочет сделать, есть самое позорное для человека – ограбить мёртвого, разорить могилу! Я таких даже на фронте редко встречал, и с ними не церемонились, – в трибунал и в штрафбат…. Много чего сказал тогда отец. Было стыдно, обида подступала к самому горлу, грозя выплеснуться слезами. Антон молчал и терпел всё, отчётливо понимая, что услышал сегодня от отца очень важную для себя вещь. С той поры ему много раз приходилось присутствовать при пацаньих акциях по изыманию кладбищенских артефактов. К тому времени ореол мистической таинственности сам собой как-то угас, померк пиетет к потусторонней стороне бытия. Но воспринятый отцовский урок нравственности и морали стал для Антона невидимой преградой на пути всяких соблазнов в отношении чужой собственности, даже той, за которую вступиться уже было некому.
Антоша продолжал принимать деятельное участие в «кладбищенской жизни». Отдельной стороной многочисленных развлечений всей, без исключения, детворы его двора стала привычка, как только стемнеет, располагаться где-нибудь с краешку кладбища. Углубившись в него самую малость от дороги, сидя на уцелевших цветниках, рассказывать особые жуткие истории про мертвецов. Рассказчик, понизив голос до утробного гудения, показывая пальцем куда-то за спину в глубь кладбища, вопрошал сжавшихся от ужаса в комок девчонок и младшую ребятню: «Где моя рука? Отдай мою руку?». И когда, после жуткой паузы, резко выбрасывая вперёд палец, он тыкая им в подвернувшуюся жертву, выкрикивал: «Ты взял её!», – эффект был грандиознейший.
Вопли и визг перепуганных донельзя девчонок, плачь во весь голос дрожавшей от страха мелюзги, наполнял веселием сердца бывалых пацанов. Они, крича обидные слова вслед задавшей стрекача трусливой части собрания, потешались над ними от всей души. А чтобы вечер закончился подстать начатому, оставшиеся пацаны, засев в зарослях туи, принимались на разные голоса завывать, пугая случайных прохожих да солдат из автобата, приводивших своих девчонок сюда же, чтобы насладиться мгновением случайной любви. Правда, иногда случалось и пострадать за свои, в общем-то, невинные шалости, когда взбешённый испорченным свиданием солдат с ремнём в одной руке, и, держа спадающие штаны другой, гонялся за бесстыдниками, не разбирая дороги.
Чума был особенно охоч до этой части развлечения. Подкараулив свою жертву, он подползал сзади, чуть ли не утыкаясь в голые ляжки разомлевшего от любовной страсти солдатика. Вскочив с диким гиканьем, он устремлялся бежать, норовя это сделать как можно ближе, чуть ли не по спине незадачливого любовника. Догнать Чуму, конечно, было делом бесперспективным, ибо знал он это кладбище, как свой карман. Увернувшись от взбешенного служивого, он делал, петляя как заяц, заранее хорошо изученный крюк. Возвратившись на прежнее место, с удовлетворением человека, хорошо сделавшего своё дело, Чума наблюдал за истерикой насмерть перепуганной девицы, в слезах подбирающей свои юбки. Её ухажёр, злобно матерясь, тщетно пытался успокоить свою пассию, суля оторвать наглому пацанюге всё, что можно и принести сейчас же к её ногам.
Глава 3
Особой статьёй являлся промысел ценностей, положенных безутешными родственниками усопших с ними в могилу. Антон часто слышал разговоры о пресечении такого рода деятельности, хотя и не понимал до конца их смысл и значение. Что может лежать в могиле рядом с мертвецом? Противная гниль, а то ещё хуже, – червяки и жуки-могильщики! Бывалый Чума быстренько разъяснил все заблуждения и недоумения Антоши в этом вопросе. Ему приходилось уже видеть, как двое мужиков копали могилу. Когда он в прошлом году, ночью шёл краем кладбища с реки, то услышал за туями стук по земле.
– Я так и перетрухнул! – округлив глаза, рассказывал Чума. – Ну, всё, думаю, хана, от них не уйти.
– От кого, от них?
– От мертвяков, от кого же! Они из могилы пробивались наверх. Я стук хорошо слышал, а, значит, уже почти выбрались.
– Ну и что ты? – весь подался вперёд Антон.
– Да чего, – ничего! Рекс загавкал и рванул вперёд. Темно уже было, я только слышал, как кто-то заматерился. Потом Рекс завизжал, а те по кустам драпанули. Когда я позвал Рекса, он прибежал, но вся спина у него была в крови. Видать его сильно огрели лопатой. Крови натекло! Жуть! Я лопух приложил и рубахой перевязал рану. Темно было! Потом лечил его месяц! И стрептоцид сыпал на рану, а она всё равно гноилась… Думал, помрёт Рекс, очень слабый он стал, даже есть перестал! А потом выздоровел и…
– Да что ты мне про Рекса всё! – нетерпеливо оборвал Чуму Антон. – Эти, мертвецы, они что делали?!
– Какие мертвецы? – удивился Чума.
– Да те, которые могилу копали! Ты же сам говорил! – закричал Антон.
– А, это не мертвецы были. Гробокопатели, вот кто, – скучно ответил Чума. – Отец мне сказал, что они золото снимают, зубы золотые из черепов дерут…
– Из черепов! – ужаснулся Антоша, – как это?
– Кусачками. Вытаскивают из могилы покойника, снимают кольца там, браслеты или ещё чего, а из черепов зубы тащут.
– Так покойник весь гнилой!? – ещё больше ужаснулся Антон.
– Ничего не гнилой, много ты знаешь! Там везде песок и они сохнут в нём, а не сгнивают, понял?
– Что-то я не верю тебе! – закачал головой Антоша. – Ты что, сам видел?
– Да не хочешь, не верь, – оскорбился Чума. – Вот пойдём туда, и ты увидишь. Завтра после школы, если не забоишься!
– Кто, я забоюсь!? – пришёл черёд оскорбиться Антону. – На главной дороге, у сломанной берёзы буду тебя ждать. А лопата у тебя есть?
Чума утвердительно кивнул головой. На том они, полные решимости доказать друг другу свою правду расстались. Но утром случилось событие, которое подействовало на приятелей как холодный душ.
Ранний осенний туман, обычно медленно истекавший по утрам мелкой моросью, на этот раз отступил. Проглянувшее солнце уже успело разогреть воздух до парной теплоты. Антоша, встретившись с Чумой на углу, как-то не сговариваясь, с весёлой усмешкой свернули в сторону кладбища. В это время сама мысль о том, чтобы сидеть в душных, полутёмных классах казалась нестерпимой. Все уроки и задания Ленка или Наташка дадут им списать, так что они даже не утруждали себя такими чепуховыми мыслями.
Идти было недалеко, но уже из-за поворота приятели услыхали какой-то неясный гомон, как будто большая толпа разгорячённых людей столпились за углом. Переглянувшись, ребята припустили бегом, волоча за собой куртки и портфели. Вылетев из-за дома, они увидели у самого входа на кладбище большую толпу возбуждённых людей. Приятели сразу разобрали, что большинство из собравшихся, были одеты в чёрную форму «ремеслухи». Среди них видны были и солдаты, несколько мужчин в штатском и две-три женские фигуры, высокие голоса которых явственно выбивались из густого мужского гула. Сверкнув глазами друг на друга, охваченные неясным предчувствием, ребята поняли, что школьные занятия недаром сегодня были принесены в жертву.
Подлетев поближе, они мгновенно затесались в самую гущу толпы, пытаясь понять причину столь крайнего возбуждения людей. Глядя на их лица, мальчики терялись в догадках, уж слишком жёсткими, злыми масками они были. Все без исключения, крича и размахивая руками, эти люди выкрикивали слова, которые ребята сначала никак не могли понять. Это были лишь восклицания, угрозы кому-то, желание возмездия и расплаты. Спросить Антоша и Чума никого не решались, боясь, как бы их отсюда не прогнали. Но чуть позже они поняли, что никому до них сейчас нет дела. Все стояли, не двигаясь с места, словно чего-то ожидая. И вдруг толпа, придя в движение, взорвалась криками, яростно размахивая руками.
Присмотревшись, мальчики увидели, как из глубины кладбища показалась кучка людей, которые тащили большой, тяжёлый куль. К ним из толпы бросилось несколько парней из ремесленного училища и соединёнными усилиями быстро дотащили куль к подножию огромной старой берёзы. Верхушка её была давно разбита молнией и главной достопримечательностью этого дерева был толстый длинный сук, протянувшийся над аллеей. На нём были устроены качели, и постоянное наличие ребятни около них говорили о большой популярности этого развлечения.
Бросив мешок поблизости, двое ремесленников с кошачьей ловкостью вмиг оказались на суку. Высоты было до них около пяти метров и оба парня, бесстрашно раскачиваясь на своём шатком балансе. Подхватив брошенную им снизу верёвку, они споро приладили её. Спустившись по верёвке, оба присоединились к остальным парням, суетившимся около куля.
Антон, толкнув в бок Чуму, шёпотом спросил:
– Чегой-то у них там? Тяжёлое наверно?
Чума пожал плечами:
– Наверное, цыгана поймали, вишь в мешке кто-то лежит! Они два дня назад украли младенца у Спириных. Вот сейчас бить будут... Подвесят, и дрынами отходят…
Не успел Чума закончить свои предположения, как распахнувшийся под разрезанным ножом мешок открыл тело человека в военном мундире. Фигура его, распластанная на земле, казалась огромной и страшной. Чёрный мундир, ещё больше подчёркивающий габариты торса, произвёл на окружающих гнетущее впечатление. С плеча тускло-серебряной молнией сверкнул узкий, витой погон. Крики на мгновение смолкли и толпа с мрачным, тяжёлым отчуждением, смотрела на лежавший перед ними труп эсэсовского офицера.
Антоша с Чумой, ожидавшие всего, но только не такую страсть, вздрогнув, отшатнулись и Витька, с побледневшим лицом коротко выдохнул: «У–ох, Тошка, смотри, мертвяк…».
«Страшён, собака», – проронил кто-то в толпе и ему тут же ответили: «Ничего, отбегалась, сейчас мы её вздёрнем. Пусть проветрится!».
Слишком свежи были ещё вчерашние воспоминания стоявших здесь людей, кровоточили душевные раны, и боль потери близких была ещё невыносима сильна. Мрачно оглядывая тело распростёртого перед ними бывшего лютого, заклятого врага, мужчины постарше и молодые солдаты с парнями из ремеслухи, женщины с заблестевшими от набежавшей слезы глазами, в един миг вспомнили военную лихую годину. И сейчас один из тех, кто принёс всем им столько горя, лежал перед ними, и боль сердца и память в нём о погибших требовала, просила, жаждала мести! Многие из находившихся здесь не могли лично отомстить фашистской сволочи. Сколько раз, просыпаясь в ночи и обливая слезами похоронки, жёны погибших солдат, и их сыновья мечтали сами отомстить ненавистному врагу. И вот случай дал им эту возможность! Что из того, что это заплесневевшее тело давно убитого врага ничего не знает о близкой расплате. Не будет оно лежать в мире и покое, когда мой сын или брат или отец с матерью не имеют даже могилы, куда можно прийти и сказать: «Спи спокойно, я здесь и помню…». Один из ремесленников, оборвал затянувшееся молчание:
– Ну, чего тут церемониться с этим говном! Тащи братва его поближе…
Но тут случилось невозможное. Из толпы вдруг раздались слова, которым лучше было прозвучать где угодно, – в церкви, с трибуны высокого собрания, но только не сейчас, среди распалённых, растравленных близкой расправой, людей:
– Послушайте, мужики, оставьте это. Не людское это дело, не христианское….
Толпа обомлела. Враз расступившиеся люди увидели этого благого проповедника. Мужичонка, высокий и худой, со спокойным лицом стоя в образовавшемся круге, измяв кепку в руке, качал головой:
– Вы же сами потом не простите себе надругательства над мёртвым телом! Сниться вам будет это, и нехорошо сниться! Вы же яритесь, и сами себе вредите! Ему что, – он своё дело сделал, а вы сейчас повесите, потопчите его, и станете, как он, продолжать его дело… неважно, будет знать он или нет... Но вы будете знать об этом…. Опомнитесь! Не становитесь сами себе врагами, не дайте ярости захлестнуть свой разум! В ней ни один человек утонул, погиб навсегда…
Рёв мужицких глоток не дал ему больше сказать ни слова. Около него сомкнулась толпа. Через мгновение, выдернутый из неё, мужичонка оказался около берёзы. Страшно рычание зверя, сулит оно боль и ужас, но ещё страшнее, когда захлёбывающийся от ярости человек, в своём рыке превосходит его: «Дави гадину!.. фашистская подпевала!.. вот такие закладывали и продавали извергам наших людей!.. тварь, затаилась да не вышло!.. Повиси-ка рядом, сучье отродье…». Мгновенно взлетели на сук те же двое парней, взвилась верёвка и повисла рядом с первой.
Но одно дело иметь жертвой бездыханный труп и совсем другое живой человек. Когда надели верёвку на эсэсовца и, было, подступили к мужчине, которого держали всё те же парни, экзекуторы как-то сникли. Да и в толпе пробежал негромкий разговор. Кто-то, видимо, изъявляя волю большинства, сказал:
– Погодите, ребята, отведите-ка его в сторонку, да накостыляйте как следует по шее, чтобы помнила она вот про эту верёвку. Неровён час кто-нибудь да наденет на неё за такие слова…
Плотоядно ухмыляясь, парни потащили мужчину в сторону, по боковой аллейке. Антоша, которому от разворачивающегося перед ним зрелища вдруг сделалось нехорошо в животе. Он продрался из первых рядов, куда затащил его жадный до зрелищ Чума и, свернув на ту же аллейку, перевёл дух. Он увидел, как парни, видимо, не желая пропустить самое интересное, не стали долго церемониться со своим подопечным. Один из них коротко чкнул мужчину в живот. Тот охнул и согнулся пополам. Другой, таким же коротким, страшным ударом отбросил бедолагу на цветник, в двух метрах от него. Мужчина, неловко падая спиной, опрокинулся на самый угол мраморного надгробия. Было видно по всему, что ударился он больно. Парни, презрительно цыкнув зубом, поспешили назад, а Антоша бросился к мужчине.
Тот лежал, согнувшись, и, прижимая платок к разбитым губам, тяжело дышал. Антон, присев на корточки, наклонился и участливо спросил:
– Дядь, вам больно? Давайте я вам помогу.
– Нет, – мотнул отрицательно головой мужчина. – Спасибо, мне не может быть больно. Помоги мне сесть.
Антон подставил плечо и мужчина, опершись на него, приподнялся и сел на край цветника. Вздохнув, он сказал с горечью в голосе:
– О, глупые, несчастные люди, сами не ведают, что творят. Вот и эти парни, они хотели меня наказать за что-то, а, по сути, им всё равно было – меня наказать, труп того офицера или ещё кого…. Им всё равно уже сейчас, кого оскорбить и унизить. Отрава ненависти глубоко проникла в их сознание и погубила в них человека.
– Почему, – недоумевая, спросил Антон. – Разве они не правы, повесив того эсэсовца.
– Хм! – горько усмехнулся мужчина. – Ну, во–первых, этот труп уже давно не эсэсовец, а прах, тлен. Разжигая в себе ненависть по отношению к нему, люди только самообманываются. Гнев и ненависть станет для них отложенной местью в отношении кого-либо ещё. Неудовлетворённая месть страшнее и сильнее всего сжигает самого этого человека. Он не сможет долго держать в себе это чувство и выплеснет его на первого же попавшегося несчастного. Такова натура человека, ты понимаешь меня?
Странные слова этого, ещё более странного дядьки, взбудоражили Антона. С ним никто ещё в жизни, вот так, по-взрослому не разговаривал. Даже отец, все ещё считая его не готовым для серьёзных бесед, ограничивался нравоучениями. И всё же Антон, слушая эти слова, смог так же проникнуться их глубинным смыслом, как если бы услышал простые истины, вроде «вода мокрая», «огонь жжёт»... И от этого ему стало радостно и хорошо, как в день праздника.
– Конечно, я вас понимаю, – с готовностью отозвался Антоша. – Только вот о чём я хотел вас спросить, – а вот эти ребята, которые вас ударили, их что, тоже нужно простить? Ведь вам же больно и обидно.
– Нет, я не чувствую ни боли, ни обиды. Обидеть может только тот, кто тебе не безразличен. Боль может причинить и блоха, но ты ведь не будешь принимать это во внимание. Нет, я ничего не чувствую по отношению к этим парням, но вот они, бедные, к вечеру уже не смогут почувствовать в своей жизни больше ничего никогда.
– Почему?
– Знаешь, есть закон, которому подчиняется всё в жизни, от самой мелочи, что движется и чувствует, до нас, высших творений природы. И вот этот закон определяет, что, кому и как отпущено на этой земле в его жизни. Я думаю, они исчерпали её срок и…
Вдруг затрещали кусты и из них, с ражем молодой гончей, выскочил Чума:
– Тошка, ты куда провалился? Я обыскался тебя, орал, аж охрип, а ты здесь! Мог бы отозваться… – с обидой в голосе закончил он.
– Дядь, ну я пойду? – просительно обратился к мужчине Антон. Ему не хотелось уходить. Было интересно узнать, что же это за закон, который распоряжается всеми жизнями и его собственной в том числе. Но Чума не даст теперь и слова сказать. Антон нехотя поднялся.
– Иди, конечно, ваше дело молодое. – Мужчина вдруг подмигнул и хитро улыбнулся: – Случай приведёт, увидимся, вот тогда и спросишь, что ты хотел узнать, хорошо?
Антон раскрыл было рот от удивления, – как мог он узнать про его мысли, но Чума, ухватив его за рукав, утащил прочь с силой маленького бульдозера.
После этого жизнь, было, зарядила и дальше, такая же скучная и пресная, как и во все дни, заполненные школой и кучей домашних обязанностей. Антон как мог развлекался в школе на переменках, давая выход буйной молодой энергии. Среди таких развлечений частенько возникали стихийные бои между смежными корпусами школы. Уж тут-то Антоша непременно был в первых рядах. В них ему частенько доставалось хлыстами как от чужих, так и от своих. В азарте боя приятели, с трудом отличая своих от противника, быстро догадались найти противоядие от этой беды. Крепко схватившись за руки, они сноровисто орудовали дрынами, каждый с одной руки, благо, что Чума был прирождённым левшой.
На третий день, утром, после памятного случая на кладбище, который они не уставали обсуждать с одноклассниками, Антоша и Витька, встретившись на привычном месте, двинулись в направлении школы. Ещё издали, не доходя до ремесленного училища, они услыхали непривычные уху заунывные звуки похоронного марша. Разглядев у входа в здание «ремеслухи» большую толпу людей, ребята недоумённо переглянулись. Музыка слышалась оттуда и они, понимая, что сейчас можно поприсутствовать при каком-то интересном событии, ускорили шаг.
Парадные двери училища были раскрыты настежь. Около них, прислонённые к створкам, стояли траурные венки, обвитые красными лентами. Сбоку стоял грузовик, кузов и борта которого были все застланы лапником, отчего в воздухе стоял густой, душистый хвойный запах. Люди с озабоченно-скорбными лицами сновали мимо мальчиков. Понимая всю важность момента, они не стали расспрашивать никого по поводу столь скорбного мероприятия. Подходившие любопытствующие прохожие, не были так щепетильны и из ответов на их расспросы, приятели поняли, что хоронят двоих учащихся из училища. Три дня назад они, после того, как повесили на кладбище эсэсовца, пошли всей компанией на речку купаться и утонули. «…Там на радостях выпили, ну и не рассчитали…», «Да, жалко парней!.. бедные ребята!.. такие молодые!..», слышалось восклицания со всех сторон. «А что же родители?..». «Детдомовские они, вот и хоронит училище. Подшефный завод денег дал…». Толпа всё прибывала и скоро у входа сама собой образовалась похоронная процессия. Выстроившись по обе стороны двери, люди внимательно прислушивались к звукам оркестра, ожидая скорого выноса гробов.
Антоша со странным чувством переваривал всё происходящее. Он понимал, что смерть, – это где-то там, что-то далёкое и чуждое. И он, то есть сам Антон, его братья, мама и отец находятся по другую сторону этой непонятной беды, и так будет всегда. Чувство скорби и горя не ассоциировались в нём со смертью и потому Антоша, желая поприсутствовать на таком интереснейшем событии, толкнув Чуму в бок, спросил:
– Что, в школу... опоздаем на пару уроков? Витька пришёл в восторг:
– Спрашиваешь? Пусть химичка побеситься!
Вдруг в толпе, к своему удивлению Антоша заметил того самого кладбищенского дядьку. Он вспомнил его странные, волнующие слова. Бросив Чуме: «Погоди, я сейчас», стал протискиваться к нему.
– Здрасте, и вы здесь? – не найдя других слов, сказал Антоша.
Мужичонка не удивился, увидев его подле себя. Он коротко взглянул из-под кепки на Антошу и спокойно ответил ему:
– Да, вот здесь, раз случилось. Я ведь говорил тебе, что мы встретимся…
– Скажите, а откуда вы узнали, что они умрут? – без обиняков спросил его Антон. – Вы тогда сказали, что им отмерян срок. Вы знали, что они должны умереть!?
– Хм! Нет, мой дорогой, этого не знает никто и никогда не сможет узнать, если только сам не захочет свести счёты с жизнью. Я бывалый человек, и много видел. Эти бедные ребята уж слишком безоглядно подошли к черте между жизнью и смертью. – А откуда вы знаете, что они подошли, и что это такое, – эта самая черта?
– Скажи, тебе часто приходилось видеть, как мотыльки и бабочки вьются около огня? И ты ведь знаешь, что многие из них обязательно попадут в него, правда?
– Конечно, сам видел у костра! Летят, как сумасшедшие и сгорают, дурни!
– Вот тебе и ответ. Ты знаешь, что они погибнут, сами они остановиться не могут, но и ты не можешь им помочь. Так и я могу видеть то, что другие люди считают моей блажью или ненормальностью. Поэтому, я давно перестал кого-либо предупреждать о беде, слишком часто мне приходилось за это расплачиваться. Ты теперь меня понимаешь, ведь ты этот вопрос хотел задать мне сейчас?
– Да-а-а, – протянул удивлённо Антон. – Точно! А как вы узнали?
– А никак я не узнавал. Я ведь тебе уже сказал, что я человек бывалый, и потому кое-что знаю в жизни. Могу и тебе пояснить, что это значит. Вот, например, ты не выучил какой-то урок, а назавтра тебя вызвала учительница и поставила за незнание урока двойку. Как ты думаешь, могла ли она в этом случае поставить тебе пятёрку, если только она не сошла вдруг с ума?
– Не, ни в жисть! – энергично замотал головой Антоша. – Ну, вот тебе и пример. И так всегда и везде. Надо только подумать о последствиях и вариантах события. Всё, что в этом случае станет для тебя ясно, для другого человека останется тайной за семью печатями.
– Скажите, – задумчиво покачал головой Антон, – но ведь люди не бабочки, у бабочек мозгов нет, поэтому они и летят в огонь. Про бабочек и я знаю, а вот про людей как же?
– Знаешь, Антоша, мне придётся повторить тебе и в третий раз, – я человек бывалый. Между человеком и бабочкой, действительно, мало чего есть общего, но одно общее, и это одно перевесит все остальные различия между ними, есть. Чувства, мой друг, хотя и по-разному они называются у бабочек и у человека, но это суть одно и тоже. Скажи, тогда, на кладбище, тебе не показалось, что у собравшихся там людей уж очень мало осталось разумного в поведении и слишком много от неуправляемых разумом чувств?
– Наверно, – неуверенно протянул Антон, – очень страшно всё там было!
– Когда чувства перевешивают разум, человек способен на безрассудные поступки и чем чаще он себе позволяет безрассудства, тем ближе он к этой роковой черте, о которой я тебе говорил. Нежелание или неумение подчинить чувства разуму необратимо разрушают гармоничное равновесие в человеке между ними и разумом. Всегда думай о том, что делаешь и о последствиях своих поступков и, может быть, к тебе придёт со временем знание и мудрость…
Сзади к ним пробился запыхавшийся Чума. Он торопливым шёпотом сказал: «Идём ближе, на кладбище будут конфеты и пряники раздавать на помин. Сам слышал, дядька какой-то говорил, на кузове стоят два ящика…». Антон, которому в последние минуты их разговор стал немного скучен, с извиняющейся интонацией в голосе простился со своим собеседником. В это время толпа пришла в движение. Из дверей училища показались выносящие гробы, мужчины. Послышались всхлипывания, причитания, пробежал гул, и стоявшие качнулись в стороны, освобождая проход к грузовику. Гробы поставили на открытую площадку кузова, несколько человек влезли на неё, и процессия медленно двинулась по дороге.
До городского кладбища было недалеко и потому приятели решили держаться рядом с грузовиком. Это было сделать нетрудно, так как двигалась процессия медленно и даже старушки с клюками, семенящие рядом, поспевали за всеми. Чума, неодобрительно поглядывая на них, сказал с неприязнью в голосе:
– Ишь, намылились, доходяги! Вечно они по похоронам шляются!
– Ну и что, пусть шляются, – возразил Антон, – нам то что?
– А вот и что! Они будут клянчить пряники и конфеты. Им всегда первым отваливают, и больше чем остальным! Нам меньше достанется, понял?
– А ты откуда знаешь?
– Знаю, сам ходил на кладбище с пацанами.
С поминальными конфетами и пряниками всё вышло так, как и говорил Чума. С оттопыренными на пузе рубашками, они выбрали укромное местечко на берегу реки. Усевшись на место посуше, ребята с наслаждением предались пиршественной вакханалии. Придя домой после такого, богатого впечатлениями дня, Антоша выглядел уставшим и рассеянным. Ужинать, набив живот богатой сладкой добычей, он отказался. Мать, обеспокоено глядя на него, спросила, в конце концов, не заболел ли он. Антоша отрицательно качнул головой. Сказав, что он просто устал и хочет спать, лёг в кровать и накрылся одеялом с головой.
Сон пришёл сразу, как будто тихо накрыл его легчайшим мерцающим пологом. Потом этот полог вдруг отодвинулся, и Антоша увидел своего недавнего знакомца. Тот улыбался и манил его пальцем. Антоша не то соскользнул, не то мановением ветра перенёсся к таинственному дядьке и они, разговаривая, вышли на сверкающую сотнями искр, дорогу. И снилось Антоше, что идут они по этой искрящейся дороге, продолжая свой разговор, а ласковое солнце, играя в каплях утренней росы, маня их, повисло в небе тёплым жёлтым шаром.
Глава 4
Скромная, неброская прибалтийская природа, её неспешная, даже порой незаметная смена времён, накладывала свой отпечаток на людей, обитавших в этих местах. Долгие, осенние, молочно-густые туманы порождали в людях характер под стать им, такой же спокойно-степенный, как и малоподвижная, желеобразная субстанция главного явления природы этих земель.
В таких туманах было нетрудно заблудиться, и жизнь в городке в эти часы замирала до крайности. Ни машин, ни подвод на улицах и только редкий прохожий, не иначе как со злым умыслом, смутной тенью внезапно проявлялся на другой стороне улицы. По крайней мере, так казалось Чуме, в чем он с жаром убеждал скептически настроенного Антона. Дружок Антона вообще отличался крайне подозрительным складом характера. Во всем и каждом он видел шпионов и диверсантов. Убеждая Антошу быть бдительным, рассказывая о своём очередном раскрытии иностранного шпиона, Чума приводил веские доводы в пользу своей деятельности. «Тут и граница рядом, а ты всё – нет, не может быть, выдумываешь…». Он шастал по окрестным лугам и полям со своим Рексом в тайной надежде раскрыть шпионское гнездо, прославиться и стать самым главным разведчиком.
Шагая в школу, им случалось пугать ветхую старушку, (видать, по чрезвычайной надобности вышедшей из дома, да тут же и заблудившейся), неожиданно выныривая из туманной мглы перед самым её носом. Антоше почему-то казалось, что известная всем пацанам считалочка, придумана именно здесь, в этих туманах. И потому «Вышел месяц из тумана…» была с полным основанием переделана на «Вышел немец из тумана…», как соответствующая духу того времени и места. В туманах хорошо игралось в некоторые игры, никак невозможные в другое время. Любимая игра в войну, приобретала несколько пугающий, волнующий воображение характер, если только допустить, что и в самом деле из этого сырого, плотного марева вдруг выйдет лихой враг! И компании мальчишек, разбиваясь на две группы, с упоительным азартом предавались выслеживанию друг друга, используя вовсю эти удивительные свойства местных краёв.
Иногда, натыкаясь на пасущихся коров, мальчики принимали их за танки врага, забрасывая несчастных животных самодельными гранатами. Изготавливались они из налитых водой хирургических перчаток, стибренных одним из них у своей матери, работавшей медсестрой в больнице. Коровы пугались немилосердно. Разбрызгивая потоки воды из осевшего на их шкурах тумана, они в панике разбегались по обширному лугу. Но всё хорошее, за что пацаны принимали такие явления природы, когда-нибудь непременно кончается. Как только последние седые лохмы тумана, застрявшие меж домов, в переулках и кронах деревьев истаивали под лучами солнца, люди, стряхивая с себя оцепенение, принимались за прерванные дела.
Осенние дни приносили для наших приятелей с собой не только туманы, школьные заботы, но и ещё и волнующую кровь пору долгожданной лесной страды. Окрестности городка, не избалованного густыми лесами, в качестве компенсации природа не поскупилась засадить роскошными зарослями орешника. Таких крупных орехов, достигавших размеров каштана, видимо, не существовало более нигде. Может, и эти были обычными, заурядными плодами, но в воображении мальчиков их добыча равнялась по своей значимости разве что с уловом какого-нибудь рыболова-фаната, хвастающего в кругу слушателей пойманной невероятных размеров рыбой.
Что касается размеров плодов фундука, то не это было главным для всей ребятни. Полновесный урожай, – вот что заставляло их сразу после школьных уроков, мчаться со всех ног за город, на свои любимые, годами проверенные места. Каждая сторона города ревностно охраняла свои угодья и, не дай бог, встретить там чужаков. Колошматили и секли их нещадно тут же сорванными ореховыми прутами, так что экзекуция надолго запоминалась захватчикам.
Ореховые войны уже совсем не походили на шутейные баталии на лугах. Многие ловкачи, прикрываясь частыми туманами, выходили на промысел рано утром, когда «владельцы» этой стороны зарослей орешника сидели на уроках. Но и тут был найден выход. Находя разные предлоги оправдания своим прогулам, мальчишками было налажено ежедневное дежурство. Меняясь каждый день, пацаны парами сторожили подступы к своим лесным богатствам. Им не надо было даже заходить в посадки. Далеко разносившийся треск ломаемых ветвей, красноречиво говорил о наглом вторжении чужаков. Спустя всего каких-нибудь десять-пятнадцать минут подоспевшая быстроногая ватага уже гнала в шею оторопевших от неожиданности воров.
Антону и Чуме, жившим поблизости от своих владений, часто доставалась роль добровольных охранителей. Орешник начинался сразу же последними предместными домами, за небольшой речушкой, не имевшей даже названия. Но ложе, с протекавшим в нём захиревшим, заросшим осокой, камышом и тиной, ручейком, было не по чину широким и глубоким, так что железнодорожная ветка вынуждена была проходить над ним по двум железным сборным конструкциям, имевшимся для каждой колеи отдельно. Между глухими стенами этих конструкций имелось небольшое, в метр расстояние, с выступающими от них снизу на ширину ступни взрослого человека, бортиками. Сами мосты не имели пешеходных переходов по внешним сторонам, и поэтому тем, кто желал перейти с одного берега на другой, можно было это сделать только по дощатым настилам, проложенным между рельсов.
Во время прохода составов самые нетерпеливые могли удовлетворить своё желание оказаться на другом берегу, прокарабкавшись по бортикам между мостами. И, как всегда, среди вечно спешащих было, презирающее опасность, пацаньё. Занятие это было и в самом деле рисковое. Мосты, во время движения составов, раскачивались и тряслись как в лихорадке, оглушая и грозя сбросить в пролёт, застигнутого между ними, безрассудного мальчонку. К несчастью, положение усугублялось ещё и тем обстоятельством, что по стенам мостов, на ширину всего бортика располагались крепёжные швеллеры. Чтобы пройти, надо было снять ногу с и без того узкой, ходящей ходуном, опоры и перенести её сбоку швеллера, упираясь в это время в исходящую крупной дрожью, стену. Чума и Антон проделывали это не раз, большей частью без необходимости, просто так, ради развлечения. Им нравилось это ощущение полного обвала и катастрофы, когда, казалось, мир рушится, и ты зажат между крушащихся его кусков. От избытка чувств, они принимались орать во всю глотку, но ни звука не могли услышать из своих широко открытых ртов! Всё поглощал гулкий рёв проносящихся в метре от них тяжелогруженых поездов.
Сентябрьская пора прибавила к этой забаве и обязанность, – не дожидаясь окончания прохода часто идущих составов, проскакивать по столь ненадёжному пути с известием о начале набега на орешник. Опоздать было смерти подобно и потому приятели наловчились с акробатической ловкостью за секунды пролетать это опасное место. Но, одно дело, когда босая летняя нога, привыкшая чувствовать каждую веточку, либо мельчайший камешек, инстинктивно приспосабливалась к чуждой, неподатливой поверхности. Другое – твёрдая, влажная подошва ботинка, то и дело скользящая по мокрому железу в самый ответственный момент переноса ноги через многочисленные швеллера. Тут в пацанах просыпалась и обезьянья ловкость и сверхчутье, которые уберегали их безрассудные тела от смертельного падения с многометровой высоты в пролёт.
Но всё окупалось, все оправдывалось позже, когда высушенный, блестящий отполированной скорлупой ореховый урожай отправлялся на местный базарчик и наряду с крольчатиной, свежей рыбой и раками был вне конкуренции у местных гурманов и хозяек. Какое ореховое масло делалось из него, какая халва, – не было подобного деликатеса нигде! А до той поры полная напряжения и жестокой борьбы жизнь держала всё мальчишье население города в постоянной готовности дать отпор ненавистным конкурентам.
Случалось мальчишкам обнаруживать в своих лесных закромах и взрослое население. Тактика борьбы с этим злом была изощрённа и также жестока, как и со своими сверстниками. Тёток с девчонками отпугивали простыми угрозами привести старших братьев и те, дескать, покажут им какой орех слаще. Тётки обычно сразу смекали, про какие орехи кричат невидимые голоса из зарослей кустарника. Их, едва подобравших свои кошёлки, как ветром сдувало.
С мужиками обстояло всё несколько иначе. Если это был залётный любитель похрустеть сладкой ореховой мякотью, то ему делалось предложение убраться подобру-поздорову. Не то взрослые парни отходят его дрынами. Мужик реагировал немедленно. Храбрясь и огрызаясь, выказывая полное пренебрежение к угрозам каких-то малявок, не желая испытывать судьбу, ретировался тут же. С компанией таких любителей-лакомок поступали несколько иначе. С ними не проводили предварительных переговоров а сразу же науськивали на них двух-трёх здоровенных овчарок, которых специально держали местные пацаны для таких случаев. Овчарка Чумы как раз и была из тех охранных собак. Спорить с ней было бесполезно, равно как и с её товарками. С подранными штанами и, случалось, укусами, мужики бежали без оглядки, даже не пробуя выяснить, кто же на них натравил этих псов. Но и сами пацаны, будучи смышлёными от природы, усердно распускали слухи про стаи бродячих собак, шастающих по пригородным зарослям и, даже, чуть ли не живущих с волками. Пропаганда была настолько действенна и убедительна, что несколько раз местными властями устраивались вылазки в места, где замечены были эти опасные твари, с целью их отстрела.
Жестокость таких способов устранения конкурентов объяснялась весьма прозаично. Орехи очень ценились в то голодное время. Многие из семей, особенно многодетные, могли иметь сносное существование благодаря лишь таким способам заработка. Чума сам был из такой семьи и потому любое покушение на ореховые запасы рассматривал как покушение на его личную собственность. Его нимало не смущало то обстоятельство, что эти заросли орешника ему никак не могли принадлежать. Антон, имея двух братьев, а потому с полным правом считая себя из многодетной семьи, горячо поддерживал своего друга.
Мать Витьки приторговывала на базаре чем только можно. В ассортименте её товаров, наряду с соленьями, вареньями и сушёностями всевозможных видов главное место занимали собранные приятелями орехи. Она честно отдавала деньги Антоше, вырученные за его долю урожая. Деньги получались немалые и потому раз в году Антон чувствовал себя несметным богачом. Отдавая матери половину своей наличности, остальные он, с чувством превосходства над неимущим людом, как-то братьями и прочей дворовой мелюзгой, тратил на их угощения и киношку. Но всё же большая часть денег уходила на нужные для себя вещицы, вроде наборов цветных карандашей, альбомов для рисования, пластилин и прочие атрибуты для занятия искусством. Но ореховая страда вскоре заканчивалась. С ней заканчивалась полная авантюр и риска летняя пацанья кампания. На всём её протяжении жизнь Антона протекала по законам, определённым природой в полной мере. Он познавал их не опосредовано и издалека, а опытным путём, постигая всю их суровость и безличность в выборе своих жертв на себе…
Наступавшая зима, как сырое и слякотное время, приносила мало пользы для развития телесных субстанций подрастающей молоди. Антон, с трудом перенося эти три-четыре месяца, от скуки полностью отдавался познанию мира посредством учёбы. Ни река, ни кладбище, ни остальные места приложения излишков жизненных сил стали непригодны для мало-мальски приемлемого пребывания на них. Писса, не замерзающая круглый год, несла свои тёмные воды с пугающей быстротой. Опасаясь быть смытыми яростно бьющими в берега речными струями, мальчишки не рисковали приближаться к её берегам. Вся живность, летом как магнитом манившая на реку, куда-то запропастилась. Не стало ни раков, ни рыбы, особенно угрей, появлявшихся в обилии по весне, исчезли миноги, тысячами водившиеся в песчаных отмелях. Опустевшая река сумрачно несла свои стылые, холодные воды в Балтику меж берегов, покрытых чёрным от липкого, мокрого снега, кустарником.
Кладбище, лишь немного оживляемое зелёным цветом туй, являло собой печальное зрелище. Едва присыпанное снегом, представляющим собой водяную кашу, оно навевало тоскливые мысли. Всяк, кто шёл мимо, невольно прибавлял шаг, спеша удалиться от сего места скорби. Для мальчишек оно потеряло всякий интерес. Чума с Антоном гораздо чаще теперь виделись в школе, нежели на природе, предпочитая ей дворовые подъезды и сараи. Это было относительно спокойное время и очень подходящее, чтобы делиться впечатлениями от пронёсшейся как один миг сумасшедшей поры солнца и тепла.
Но лишь только опять потянуло тёплыми весенними ветрами, едва обсохли первые проталины и взгорки, подставляя теплу свои бока, солнце, гоня в рост молодую зелёную траву, творило то же чудо в крови истосковавшихся по воле многочисленных ватаг пацанов. И снова всё повторялось по давно заведённому порядку. Каждый раз, будто заново возникающий в ощущениях и чувствах цикл мальчишьей жизни, протекал так же бурно и стремительно, как и прежде, в конце своём достигая логического завершения в бескомпромиссных битвах за ореховый урожай.
Глава 5
Эту осень Антон запомнил на всю жизнь. Наступившая череда напряжённых будней не давала продыху никому из местной компании. Антон, ставший полноправным совладельцем ореховых плантаций, ревностно блюл интересы своего местечкового клана. Урожай орехов был в этот год на редкость небывалым. Такая удача прибавила всем пацанам не только радости, но и забот и головной боли. Оберегая своё богатство от многочисленных покусителей, приходилось вертеться вьюном, а потому скорость принятия решений и их выполнения приобрели решающее значение.
Эта ответственейшая задача была возложена на самых быстроногих. Упредить и, тем самым, свести на нет урон от набега похитителей, стало для мальчишек делом чести. И однажды, в судьбоносный для Антона день, ему выпала такая возможность не уронить себя в глазах всей компании. Антоша и Чума, бывший с ним в дозоре, как всегда, вместе со своим Рексом, расположились на взгорке, на ближних подступах к ореховому массиву. В это раннее утро ничто не предвещало возможных инцидентов, потому как во всех школах проводилась в это время общегородская пионерская линейка. С неё было трудно отпроситься, но Антоша с Чумой ухитрились, каждый по своей веской причине, по особому разрешению директора школы, отсутствовать в этот день на уроках.
Разглядывая летящие по ветру серебристые паутинки с маленькими, красными паучками на конце каждой из них, мальчишки на мгновение было отвлеклись от наблюдения за окружающим оперативным пространством. Вдруг до их слуха донеслось негромкое рычание Рекса. Вмиг насторожившиеся ребята стали смотреть в ту же сторону, что и их бдительный пёс. Они увидели, как над травой, едва возвышаясь, двигаются разномастные макушки деревенских ребят. Те, прекрасно осведомлённые про жестокости городской братвы, осторожно передвигались ползком. Числом их было не менее полутора десятков, так что налёт был особо массовый и обещал принести невиданные опустошения.
Мысли наших приятелей лихорадочно искали выход из создавшегося положения. Им стало ясно одно, – в первую очередь надо срочно собирать ребят, но перед этим как-то попытаться задержать наглых ворюг. Долго размышлять не пришлось. Рекс, умный и толковый пёс, сам подсказал единственный выход. Едва слышно подскуливая, он просительно заглядывал в глаза Чуме, словно говоря тому: «Ну, что же ты, хозяин, пусти меня, ужо я им…!».
Чума повернулся к Антону и сказал:
– Дуй быстрей, а я их здесь сейчас попугаю, не боись, меня они не поймают. Только ты успей, ладно?
Антон знал, – попадись Чума к деревенским в руки, – быть ему жестоко битым. Он ничего не сказал, ткнул друга в плечо и исчез.
На бегу, наддавая прыти, Антон услышал тяжёлый гул приближающегося состава. Рискуя соскочить с тропинки, резко обрывающейся откосом к насыпи, Антон понял, что проскочить через мост до поезда ему не удастся. До него оставалось пятнадцать-двадцать метров. Ждать, пока весь состав пройдёт, не было времени. Стремительно надвигающийся состав явно обгонял его. Антоша принял решение хотя бы успеть перебежать на противоположную сторону. Сбежав с тропинки, он лихорадочно стал карабкаться на насыпь. И лишь оказавшись на противоположной колее, понял, что ещё мгновение, и он бы не успел проскочить. Тепловоз, яростно взревев гудком, пронёсся мимо Антона. Его обдало горячей смесью терпкого запаха перегретого масла, солярки и металла. Взвихренный поток воздуха, нёсший с собой тучи пыли, на мгновение забил глаза и перехватил дыхание. Когда Антон открыл их, то увидел мчащийся с противоположной стороны на всех парах огромный, чёрный паровоз, тащивший за собой длинную сцепку вагонов. Путь по этой стороне моста был тоже отрезан. Сообразив, что отступать поздно, иначе он будет смят чудовищной махиной, Антоша нырнул в спасительную щель прохода между мостами.
С трудом переводя дух, Антоша, тем не менее, ни на секунду не забывал об оставленном наедине, с кучей непримиримых врагов, друге. Времени на раздумья не было. Собравшись с духом, он шагнул в ревущий стогласой чудовищной глоткой провал. Стены обеих сторон моста дрожали как в конвульсиях. Узкие планки бортиков были едва видны в наступившем мраке, порождённым пролетающими по обе стороны высоченными боками вагонов.
Стараясь крепко упираться в стены моста ладонями и одновременно переступать по бортикам, Антон испытывал сильное напряжение. Вспотевший после быстрого бега, он старался на ватных ногах удержаться на уходящих из-под них, раскачивающихся, дрожащих бортиков. Антоша знал, что одно неверное движение, и он полетит вниз с многометровой высоты. Он подведёт всех и друга, а, значит, будет в их глазах опозорен как слабак и ненадёжный чувак.
Но что можно поделать, если сама судьба в этот день была не на его стороне! Что произошло, почему вдруг тяжкий удар потряс весь мост до основания, Антоше до этого уже не было никакого дела. В следующее мгновение, за которое у него не успел бы даже возникнуть и обрывок мысли, он, сорвавшись от мощного сотрясения, полетел вниз. Затем его тело потряс удар о землю, а немедленно наступившая темнота погасила его сознание. Но перед тем, как падение погрузило его в тьму, Антон явственно ощутил, как какое-то крепкое, упругое препятствие, пригасив скорость падения, развернуло его тело в невозможном перевороте и оставило на илистой земле.
Придя в себя, Антоша не сразу понял, что случилось. Он только чувствовал, что лежит на земле, а под головой находится что-то мягкое. Не открывая глаз, Антон пошарил руками сначала по себе, потом вокруг. Ощутив резкую боль в плече, застонал.
– А, вот и наш летун очнулся, – услыхал он над собой мужской голос. Антоша открыл глаза и увидел перед собой неясные очертания мужской фигуры. Перед глазами всё плыло, в голове стоял звон. Он, не понимая ещё, что же с ним такое приключилось, еле слышно пробормотал:
– Голова болит… что со мной?
– Ничего страшного, – с ласковой усмешкой ответил ему тот же голос. – Тебе полежать немного надо и всё пройдёт. – Кто вы? – Антоша уже вполне отчётливо смог различить сидевшего рядом мужчину. Из-под кепки на него смотрели тёмные, почти чёрные глаза. От этого взгляда Антоше полегчало так, как будто он выпил сразу две, а то и три таблетки пирамидона. – Дядь, а почему я лежу здесь? Мне надо к ребятам…. – Подождут пока твои ребята, а ты мне лучше скажи, голова у тебя не кружится, тебя тошнит или нет? – Немного. – Антон пошарил рукой вокруг себя и удивлённо протянул: – Как я не разбился насмерть!? Здесь же бетон и камни! – Ну, упал, положим, ты не здесь, а вон там, – и мужчина показал пальцем на место, метрах в пяти от них. – Не знаю, то ли ты и вправду, как у вас говорят, в рубашке родился, но упади ты в любую сторону хоть на пару сантиметров, мы бы сейчас с тобой не разговаривали. – Почему? – И-эх, бедовая ты голова, разве не видишь сам, куда тебя угораздило свалиться!? Да там же, как морковки на грядке, натыкано пеньков от старых свай. Мост когда-то стоял здесь деревянный, вот и остались от него одни пеньки. А лежал ты между этих пеньков так, как будто нарочно кто положил тебя, – голова впритык у одного, спина упёрлась в другой, а ноги между двух соседних полусогнуты! Ну, прямо кто выгнул тебя, да и впихнул между ними. Не увидел бы сам, не поверил, что так можно свалиться с пятиметровой высоты и не зацепить ни один пенёк! Если бы не было там вязко от ила, и то хватило бы свернуть себе шею или сломать позвоночник, – хм! – а то ещё и метровые пеньки! Чудеса, парень, да и только!
Дядька покрутил головой и, размяв папиросу, закурил. – А ты ещё полежи, тебе надо! Не бойся, я побуду с тобой, а потом доведу тебя до дома. Я-то как раз рыбу ловил рядом, когда по мосту проходили составы. Вдруг стукнуло наверху, видно состав резко тормознул, я взглянул и вижу, а с моста вроде как человек падает. Удочки я бросил, подбегаю, смотрю, – а тут пацан лежит…
Он ещё что-то говорил, но Антоша уже не слышал ничего. Мягкий, неспешный говорок дядьки будто убаюкивал и его незаметно сморил глубокий сон.
Когда Антоша проснулся, солнце косыми потоками лучей уже вовсю заглядывало под пролёт моста. Он сел и с недоумением огляделся, совершенно не понимая, как он оказался здесь, лежащий на земле под мостом. В ещё большее недоумение его повергла какая-то накидка, которой он был укрыт, а под голову ему было подложена мягкая, сложенная вдвое, ватная кацавейка. Антоша осмотрелся и все вдруг ясно вспомнил – и свой полет вниз, и накрывшую его темноту.
Он поднялся. Было удивительно, но, несмотря на падение и удар о землю, Антоша чувствовал себя вполне сносно, если не считать небольшой ноющей боли в плече. Его вельветовая курточка и плотные парусиновые штаны были изрядно выпачканы в липком речном иле. Он уже подсох и при малейшем движении отваливался мелкими корочками. Антоша снял курточку, кое-как оббил с неё и штанов остатки засохшей грязи. Перед тем, как уйти, он сложил большую, серую, пепельного цвета тряпку, служившую ему покрывалом вместе с такого же цвета кацавейкой в угол, у бетонной опоры моста.
Выбравшись из-под него, он с удивлением обнаружил, что пролежал под мостом почти весь день. Было что-то около семи часов под вечер и ему довольно часто приходилось возвращаться в такое время домой. Но не это беспокоило Антошу. Он прекрасно помнил и причину падения с моста, и события, предшествующие ему. В голове крутилась одна неотвязная, смурная мысль: «А как же Чума…, ребята…, орехи…!?». Он прибавил шагу, чтобы успеть заскочить к Чуме. Его дом находился прямо по пути. Антону не терпелось разузнать, что и как было без него, а заодно объяснить причину своего отсутствия. Но ничего этого ему не пришлось делать. Уже издали он увидел Чуму, сидевшего на скамейке у забора своего дома. Витька, тоже разглядевший его издали, сорвался с места и помчался ему навстречу. Подбегая, он завопил: – Тошка, чертяка пропащий, ты где был!? Я к тебе домой уже три раза бегал, везде разыскивал, а ты с лесу идёшь! – Слушай, Вить, да я навернулся с моста, и пролежал там до сих пор… – Чё ты мелешь! – не слушая Антона, оборвал его Чума. – Если бы не ты, уделали бы меня деревенские по первое число! Пока Рекс гонял одних, я от остальных по кустам сигал как заяц! Минут десять, наверное, уже в кольцо меня загнали, как смотрю, – наши орут! – без передыху вываливая сведения на Антона, захохотал радостно Чума. – Но мы им и вде-ла-ли! – с протяжкой выдохнул Чума, – мало не стало! Дали мы им гостинцев похавать! Я уже только потом увидел, что тебя нет. Где ты был-то? – недоумённо закончил Витка.
Антон быстро смекнул, что события каким-то образом благополучно развернулись и без его участия. Он не стал объяснять истинную причину своего отсутствия, а немного неуверенно ответил:
– Ну… это… домой надо было забежать. А потом я ушёл, чтобы мать меня не застала. Вас в посадках искал, вот и иду оттуда.
Витька вдруг с недоумением осмотрел одежду Антона, и спросил:
– Ты чего такой грязный?
– А-а! – поморщился Антон. – Под мост спустился, хотел камыша нарвать, – Славка просил, – да поскользнулся…. Да, ладно, ты лучше расскажи, как вы деревенских уделали?
– Я ж тебе говорю, по первое число!.. – и Чума в радостном возбуждении поведал Антоше, какого удовольствия он лишился.
Из его слов он понял, битва состоялась при полном превосходстве наших пацанов, как под Сталинградом или на Курской дуге. Когда Антон сообщил положение дел ребятам, те поняли, что без применения «бамбашек» не обойтись. Мгновенно Лёвка и Сорока, схватили торбы с «бамбашками» и вся кодла помчалась на место сражения.
Эти «бамбашки», надо сказать, были дьявольски изуверским изобретением. Когда Антоша впервые увидел их в действии, он понял, что лучше любая пытка, чем попасть под «разрыв» этой самой «бамбашки». Кто и когда придумал их, никому не было известно, но в ореховых войнах, не было средства мощнее и действеннее, чем этот дьявольский снаряд. Существовал он в двух модификациях - как небольшой пакетик, для ручного применения, так и в виде шарика размером не более двух сантиметров в диаметре.
В самой упаковке не было ничего примечательного. Она изготовлялась из тончайшей папиросной бумаги, которой было завались в табачных ларьках. Из неё гурманы-куряки крутили самокрутки по своему собственному вкусу и предпочтению. А вот начинка, самый секрет которой держался в строжайшей тайне от других компаний пацанов, представлял собой самую зверскую по воздействию на организм смесь. Она состояла из равных долей нюхательного табака, красного порошкового перца, дуста и едкого натра, то бишь, каустика. Эта смесь аккуратно расфасовывалась по заранее склеенным пакетикам и насыпалась в шарики. В оба снаряда добавлялись утяжелители, тщательно рассчитанные по весу, чтобы в процессе применения, до попадания в цель, не произошёл нежелательный разрыв тончайшей оболочки. Обращаться с ними нужно было умеючи и потому особо выделенные мальчишки из кодлы старательно обучались обращаться с сим оружием массового поражения. Применение «бамбашек» было до смешного просто и примитивно. Сблизившись с неприятелем на расстояние выстрела из особого вида рогаток, лучшие стрелки-снайперы, которым на расстоянии двадцати метров нечего было делать попасть в лампочку или голову соседской курицы, начинали обстрел. Когда большая часть противника была деморализована, в дело вступали метальщики из числа крепкоруких пацанов. Они одну за другой посылали свои «бамбашки» в головы и туловища оставшихся бедолаг.
И наступал финал. Стоило только коснуться попавшему снаряду чего-либо, – головы, верхней части туловища или даже ветки над головой несчастной жертвы, как он мгновенно разрывался, разбрасывая тончайший порошок на метр-полтора вокруг. Вдохнув его, жертва тотчас же впадала в состояние прострации, ибо вся слизистая глаз, носа и рта превращалась в место невыразимого адского жжения. Сотрясаясь в конвульсиях от ураганного чихания и кашля, сопровождаемого потоками влаги из глаз и носа, жертва в тот же миг становилась неспособна ни к каким осмысленным действиям.
И когда, обессиленное физиологическим процессом, страдающее существо пыталось скрыться, неумолимые мстители, чтобы довершить начатое дело и усилить эффект разгрома, пускали в ход дрыны и ореховые прутья. Это придавало несчастным дополнительное ускорение и необходимые силы. Они с рёвом, перемежаемым с взвизгиваниями от хлёстких обжигающих ударов ореховыми прутьями, не разбирая дороги, через кусты и ухабы, со скоростью, которой позавидовал бы любой стриж, уносили прочь своё исстрадавшееся тело…
Дома Антошу ждала мать с претензиями на его длительную отлучку. Он кое–как отговорился, объясняя своё отсутствие необходимостью ухода за кроликами в школе. Мать с недоверчивой подозрительностью выслушала его многословно-сбивчивые объяснения, а затем, с интонациями, не обещающими ничего хорошего, спросила:
– А что это с твоей одеждой, тоже кролики вывозили?
– Да я поскользнулся, там мокро было…, клетки мыли…
– Мгм…, и поэтому от неё несёт бензином? Вы что, клетки бензином моете?
– Нет, водой, – в замешательстве пробормотал Антоша.
Он вспомнил, что проходящие по мосту составы часто останавливались на нём, чтобы, пользуясь даровой водой, отмыть сливные узлы и краны перед заправкой на станции. Оттого по берегам речушки всегда имелись в изобилии застойные лужи, покрытые нефтяной коркой. В одну из них Антоша и угодил при падении. Тогда, в сумраке под мостом, он не обратил на это внимание, но сейчас, когда мать с грозным видом вопрошала его об этом обстоятельстве, Антоша осознал весь трагизм своего положения. То, во что он был сейчас облачён, по традиции тогдашнего экономного времени, предстояло донашивать младшим братьям. Потому первообладателю сих одежд, в первейшую обязанность вменялось передать её по мере выроста в братнины руки максимально целой и годной для дальнейшей носки. Тоже касалось и обуви, предмета, особо подверженного порче.
Эти условия наследования прекрасно знал его погодок Славка, и потому ревностно следил за состоянием своего наследства. Вот и сейчас, насупившийся и недовольный, он загундосил из–за спины Антоши, подливая, тем самым масла в огонь: – Ма, чего он сделал с курткой, во, смотри! – Ну-ка, повернись, – приказала мать, и цокнув от расстройства языком, сердито выдохнула. – Снимай куртку! Антоша повиновался и, протягивая её матери, с ужасом увидел на плече, захватывающее и спину, большое мазутное пятно. Вельвет был, видимо, безнадёжно испорчен. Мать с минуту молчала, не в силах выразить обуревающие её чувства, затем, справившись с ними, молча вышла из комнаты. Стоявший сзади Славка ехидно протянул: – Ну, теперь тебе будет! Будешь знать, как грязнить мою куртку! Антон обернулся к нему и, скроив зверскую рожу, показал кулак. Что-то добавить он не успел, так как в это время вернулась мать и, протягивая Антоше кулёк и кусок жёлтого мыла, сказала: – Бери куртку, соду и мыло, отправляйся на кухню и стирай её до тех пор, хоть всю ночь, пока не отстираешь. Ужинать будешь, когда приведёшь куртку в порядок. Ты меня понял? Антоша виновато кивнул головой и, взяв соду и мыло, отправился исполнять своё нелёгкое дело. Маленький Димка, сострадая старшему брату, принёс украдкой кусочек чёрного хлеба, который был тут же с благодарностью съеден. На третьем часу работы, стерев кожу на больших пальцах рук, сменив в тазу несчётное количество раз воду, Антон, наконец, решился показаться матери на глаза. Ужин давно уже прошёл. Его тарелка сиротливо примостилась на краю стола, а мать, сидя за столом, проверяла студенческие работы. Увидев вошедшего Антона, она отложила тетрадку и спросила:
– Всё?
– Да, – буркнул Антоша, протягивая ей мокрую куртку.
Мать внимательно осмотрела её. Покачав головой она, ни слова не говоря, отложила её на угол стола. Кивнув на тарелку, сказала:
– Садись, ешь…
Глотая остывшую жареную картошку с такой же холодной котлетой, Антоша думал о том, что пришло ему в голову во время стирки. Он никак не мог понять, откуда там, под мостом, на нём оказалось покрывало, а под головой кацавейка. Чьи они? Не мог же он сам это сделать? Решение этого вопроса пришлось оставить на утро, так как мать торопила его идти спать. Утро тоже не принесло ему никакой ясности. Антоша, усиленно припоминая порядок событий, мог с уверенностью сказать себе, что с момента падения до того момента, пока он не проснулся вечером, не помнил ничего. Это его пугало и сбивало с толку. В свои четырнадцать Антоша мог уже с достаточной степенью здравого смысла подвергать анализу все интересовавшие его явления и события в жизни. В потусторонние силы он не верил. В этом мнении его сильно утвердили, как дневные, так и ночные многолетние бдения на кладбище. Ни мертвецов, встающих по ночам из могил, ни привидений, чертей и прочей нечисти, по рассказам, в изобилии должных водиться на кладбище, он не встречал никогда. Кто угодно шлялся там по ночам, но только не эти сказочные существа. Не мог же кто-то из призраков сделать это. Он бы непременно разбудил бы его сначала, чтобы перепугать или забрать с собой. В том, чтобы укрывать спящего не было для них никакой корысти. Что-то тут не так!
Чума, напротив, верил во всё, что только ни создало человеческое воображение в этой области. Странным образом в нём уживались редкий скептицизм, что, впрочем, было свойственно всем пацанам, избравшим себе местом для игр это поле скорби и гипертрофированная вера во все чудеса и потусторонние страсти. С жаром отстаивая какой-нибудь мистический постулат, вроде восстания мертвецов из могил, он, нимало не смущаясь очевидными противоречиями, между его убеждениями и фактом полного отсутствия такого восставания мертвецов на известном ему кладбище, с безапелляционным напором заявлял: «Это неправильное кладбище! Тут их разорили, вот они и удрали отсюда!». А когда кто-нибудь из мальчишек показывал ему на валявшуюся поблизости почерневшую скелетную кость или кусок черепа с длинными волосами на нём, прибавляя, что в оставшихся могилах лежат ещё кучи мертвецов, Чума свирепел и запальчиво возражал: «Много ты понимаешь! Может, они сами не хотят тебя трогать! Больно ты им нужен!».
Как бы там ни было, Антоша понимал, что если кто-то и видит этих страшных чудовищ, то ему, видать, с этим не повезло в жизни. А как хотелось, слушая рассказывающего взахлёб о кладбищенских страстях Чуму, увидеть самому какого-нибудь призрака или ходячего мертвеца! Он даже несколько раз оставался на кладбище ночью, засев в кустах туи, искренне желая увидеть привидение или компанию оживших трупов. Под утро, уходя с насиженного места, Антоша с досадным сожалением чувствовал себя оставленным в дураках. Что с раздражением и высказывал, часом позже встретившись с Чумой. В общем, тогда и погибла в Антоше вера во всё чудесное, мистическое, таинственно-сказочное…
Тем не менее, кто он был, этот таинственный незнакомец, который принёс тёплое покрывало и, сняв с себя кацавейку, пожертвовал ею, оставив на каком-то мальце!? Два дня мучился этим вопросом Антон. В конце концов, он все же решился расспросить об этом Чуму. Ему стало казаться, что это дружок сильно разыграл его, подложив ему, спящему, эти вещи! Антон решил выяснить это и, тем самым, покончить с мучительным вопросом даже ценой позорного разоблачения, рассказав Чуме всю правду.
Витька, выслушав Антона, наморщив лоб, размышляя, с минуту сидел молча, потом с недоумением, как будто что-то вспомнил, спросил:
– Ну, хорошо, а кто же тогда предупредил пацанов о деревенских? Они говорили, что это был ты! Кто же это тогда был?
– Не знаю, я ведь в это время валялся под мостом в отключке, – пожал плечами Антон. – Может, сбрехнули или разыграли тебя?
– Да, нет, – вскинулся Чума, – что я, больной что ли!? Говорят, Антон примчался с выпученными глазами, рассказал всё и повалился на скамейку, всё не мог отдышаться. Они сюда, а ты остался. Вот и всё, можешь хоть у Сороки или Лёвки спросить!
– Не, ты что, не надо, а то ещё подумают чего! Лучше скажи, ты помнишь время, когда увидел меня позавчера? – Конечно, – с готовностью отозвался Чума, как будто ждал этого вопроса. – Почти семь было, я от тебя прибежал только что, мамка твоя сказала, что тебя нет дома. Я и посмотрел на часы.
– Понятно! – протянул Антоша. – Вот в это самое время я проснулся под мостом. Теперь, когда ты всё знаешь, может, скажешь, как всё это объяснить?
– Да!? А что я тебе говорил! – торжествующе заорал Чума. – Вот кто вместо тебя прибёг к пацанам, кого они видели!? Привидение! Твоё! Теперь-то ты понял, что они есть!
Чума, не сводя с Антона восторженного взгляда, закрутился, затанцевал на месте от переполнявшего его возбуждения.
– Тошка, вот это ты дал, привидение у тебя на побегушках было!..
– Да заткнись ты! – сердито закричал Антон, уже поняв, что от Чумы в этом деле будет немного толку. Если он сел на своего конька, – пиши пропало. – А покрывало откуда? Кацавейка?
– Да чего там кацавейка! Бабка или тётка какая-нибудь увидели тебя, укрыли да в больницу побегли, а ты в это время очухался и ушёл! И всё!
– Знаешь, может, и правда так было, – задумчиво сказал Антон, – но не тётка или бабка это были. Я чувствую - не, не они.
– А если не они, то кто? И потом, они бы вернулись всенепременно и забрали покрывало и кацавейку. Слушай, а что если сбегать на мост и посмотреть, там ли они лежат ещё или нет?
Идея Чумы пришла как озарение. Приятели тотчас же бегом сорвались с места, благо бежать было совсем недалеко. Антоша только успел подумать, хорошо бы их не было там. Но вещи оказались там же, где их положил Антон.
Испуганные и озадаченные, ребята опасливо смотрели на тряпки, как будто передними была ядовитая змея. Чума украдкой зачастил перед лицом крестные знамения и срывающимся шёпотом сказал:
– Тошка, нехорошо это всё, нечистая здесь ходит… Холодок, лёгким ознобом пробежав по телу и ткнулся в сердце, породив в голове паническую мысль: «Драпать отсюда надо!..». Приятели взглянули друг на друга дикими глазами и, не сговариваясь, рванули наверх из-под моста.
Позже, об этом случае они предпочитали не разговаривать. Чума, оттого что безоговорочно поверил Антону в его историю, трактуя случившееся, как вмешательство в их жизнь потусторонних сил. И поэтому, решил он, чем больше помалкивать об этом, тем вернее нечистая быстрее забудет о тебе.
Антон считал всё это галиматьёй, но необъяснимость случившегося с ним тоже пугала его. Но, чтобы избавиться от непонятной тревоги он предпочёл самый радикальный способ, – напрочь всё выкинуть из головы.
Глава 6
Июльские дни, нескончаемо длинные, наполненные благодатным теплом, благодаря своей протяжённости, к истечению своему так утомляли мальчишьи субстанции, что иссякшие силы требовали непременного вечернего отдыха. Собравшись во дворе в единый собор, – от мелюзги, мельтешащей под ногами, на которую снисходительно посматривали старшие, до облечённой высшей дворовой властью верхушки, – все неторопливо погружались в ауру всеобщего благодушия вечерних посиделок.
И пока ещё позволял закатный свет, уже подёрнутый прозрачной тёмной вуалью, детвора предавалась нескончаемой возне то в салки, то жмурки, а то и просто беготне. Но солидным, знающим себе цену, парням, вроде Антона, Чумы, Лёвки и остальному околовозрастному составу дворовой кодлы, такие забавы уже претили. Их живо интересовали игры взрослых, которые они обсуждали со всё больше возрастающим интересом. Расположившись на длинных деревянных лавках, пацаны предавались хвастливому зубоскальству на темы любви и женских прелестей. Кое-кто из ребят уже вкусил запретного плода. Их под разными предлогами просили повторить свою любовную историю, и каждый раз в изложении бывалого любовника она ширилась и, обрастая всё новыми подробностями. Такие рассказы приобретали в глазах остальной братвы непреходящий интерес. Поражая воображение ребят донельзя, эти истории доводили их до полуобморочного состояния. Пацанам в это время было уже всё равно. Скрывая лицо под маской напускного безразличия, они взахлёб ловили каждое слово вконец завравшегося счастливчика. Не имея возможности отличить правду ото лжи в столь неизвестном для них вопросе, все только беспокойно ёрзали на своих местах. Лишь горящие глаза и пунцовые от возбуждения уши, выдавали ребят с головой.
Тусовавшиеся во дворе девчонки, как объекты сих историй их интересовали мало. И вообще, худосочные, крикливые и вздорные подруги детства мало походили на потрясающих воображение красоток из рассказов и взрослых фильмов, случайно виденных на вечерних сеансах. Мечты мальчишек реализовывались в их снах. И там, конечно же, длинноногие красавицы блондинки дарили им все радости любви, насколько представлял себе эти радости каждый из них.
И потому вечерами в их компании всегда объявлялся новый рассказчик очередной любовной истории. Странное дело, все прекрасно знали, что, положим, Лёвка никак не мог оказаться в такой ситуации, но это ему прощали. Главное, чтобы в рассказе всё было красиво, и только просили дополнить его какой-нибудь пикантной подробностью. С подробностями выходило туговато, но это не огорчало слушателей. Они дополняли их дефицит своим воображением, а потому не слишком привередничали. Одно только не прощали самозваному рассказчику – явного вранья. Касалось оно только знакомых девчонок и подсмотренных сцен. Первое выглядело как вздор, а второе слишком было примитивно и быстро, как, например, любовные утехи автобатовских солдат на кладбище.
Попался на этом втором несчастный Сорока. Долго потом ему не давали прохода, беспощадно дразня «стручком морковным». Но со временем всё забылось, простилось и вернулось на круги своя, и очередной разоблачённый «блефун» подвергался немилосердной обструкции. Что удивительно, Сорока принимал в ней самое деятельное участие, словно торопясь выместить на несчастной жертве все обиды за неприятные деньки своего сексуального промаха.
В такие вечера посиделки оканчивались поздно, и не оттого, что темы были исчерпаны. Наступало время равностояния света и тьмы, когда ещё было видно того, с кем говоришь, но черты его лица уже слились в одно белое, фосфоресцирующее пятно. Тьма брала своё. Мальчишки прощались до завтра и расходились по домам. И никому из них не была ведома ни его судьба, ни судьба тех, с кем только что расстался – ни на завтра, ни на любой другой миг будущего.
В тот вечер Антон, проводя Чуму до переулка, не торопясь, повернул назад. Дома уже все спали и он, тихонько прокравшись к кровати, юркнул под одеяло. После таких разговоров спать не хотелось. Антоша, ворочаясь с боку на бок, вспоминал будоражащие воображение услышанные эпизоды. Было в этом какое–то наваждение. Он словно не мог закрыть глаза. Едва только он смыкал веки, как видения неземных красавиц манили его за собой и в их хороводе Антон видел какого–то мужчину во фраке и цилиндре. Потом этот цилиндр и фрак превратились в кепку и кацавейку пепельного цвета, а невероятным образом преобразившийся мужчина стал походить на кого-то очень знакомого. Он хитро улыбнулся Антону и сказал: «Ну, вот теперь тебе пора всласть выспаться, торопиться завтра погодь…». И только сказал он эти слова, как провалился Антоша в сон, как в омут, словно камешек, без чувств и движений.
Летние ночи так коротки и потому, поздно вставший, разбуженный затеявшими возню братьями, невыспавшийся Антон с раздираемым зевотой ртом, был утром скучен и вял. Во дворе, в ответ на приставания Чумы с каким-то делом, он с раздражением просил отстать от него. Тот же, разобиженный холодным отношением друга, надулся и, спустя минуту, сказал:
– Вот, пока ты дрых, ребята на форт ушли. С лодкой, доставать будут ящики с детонаторами и шнуром. Если тебе это не интересно, можешь торчать здесь.
– Чего же ты раньше не сказал!? – спросил вмиг проснувшийся Антон. – А ты чего не пошёл?
– Тебе скажешь! Так ты – отстань да отстань! Я два раза к тебе прибегал. Мамка твоя говорила, что ты спишь, и будить тебя не хотела, – буркнул Чума. – Пацаны ушли уже давно…
Форт, место примечательное во всех отношениях, находился за городом километрах в шести. Наземные укрепления были изрядно разрушены, но все подземное хозяйство осталось в полной неприкосновенности. Во время штурма форта немецкое командование отдало приказ затопить подземные галереи и помещения, разрушив имевшуюся для этих целей специальную дамбу. К форту был прорыт от реки мощный канал, позволивший одновременно устроить обводной ров вокруг стен. Антон знал об этом от местных пацанов, но относился к этим фактам с равнодушием. Проникнуть в подземные галереи было невозможно, да к тому же они, по слухам, были все заминированы.
И вот сейчас ребята организовали туда поход, а он проспал это событие! Идти пешком уже было поздно. Антоша с досады стукнул кулаком по лавке. Детонаторы и шнуры, добывавшиеся иногда из-под воды методом траления, представляли собой весьма ценный способ ловли рыбы. Кусок бикфордового шнура обжимался во вставном гнезде детонатора, и, подожжённый, бросался на середину реки. Глушенная рыба всплывала, и оставалось лишь подобрать её.
Запасшись фонариками, тросами с «кошками» и резиновой надувной лодкой, которую имел чуть ли не каждый третий в городе рыбак, прибыв на место, ребята принимались за дело. Один из них привязывал обмазанный битумной смолой для водонепроницаемости к верёвке фонарик и опускал на дно каземата. Этого тусклого на пятиметровой глубине света вполне хватало, чтобы рассмотреть аккуратно сложенные на стеллажах фанерные ящики. У верхних из них фанера отслоилась. Через расслоившиеся крышки просматривались увязанные в просмолённую бумагу свёртки. Зацепляя «кошкой» первый попавшийся свёрток, они осторожно тащили его наверх. Шпагат, которым был обвязан пакет, хотя и был просмолен, но от времени пребывания в воде потерял прочность, что совсем не сказалось на содержимом этих свёртков. За те же полтора десятилетия пребывания в водной купели, извлечённые из воды и вынутые из упаковки, детонаторы, блестя толстым слоем салидоловой смазки, выглядели будто изготовленные вчера.
Власти, зная о затопленных складах, всё, что могли обнаружить, давно вывезли. Всё то, что сейчас вылавливалось, было случайно обнаруженным вездесущими пацанами локальным местом хранения.
– Ну, что будем делать, – спросил с надеждой в голосе Чума. – Может, на велике рванём туда? Успеем! Антон, загоревшись идеей, мигом раздобыл у соседа велосипед. Усадив Чуму на багажник, он что было сил, завертел педалями. Взгорки и спуски, попадавшиеся на пути, Антоша пролетал одним махом, не снижая скорости. Чума только вскрикивал на поворотах и особо сильных трамплинах. Полчаса такой езды, – и форт был перед ними как на ладони. Бетонные глыбы вздыбленными торосами были разбросаны в хаотическом беспорядке. Кое-где поросшие кустарником и осинником, они были желанным местом для любознательных пацаньих натур. Вылазки сюда делались неоднократно, но отдалённость форта от не менее притягательных мест рядом с домом делала его недоступным для частых игр. Антон, разглядев первые строения, соскочил с велосипеда. Тяжело дыша, он предложил Чуме поменяться местами. Оставалось каких-нибудь пять минут езды и Антон мог уже, не особо беспокоясь, за целостность своих колен и локтей, доверить руль велосипеда Чуме.
Осторожничая на спуске, Витька только было раскатился к подножию, как внезапно потрясший землю мощный толчок сбросил ребят с велосипеда. Она заколыхалась под ними, будто превратилась в огромное болото, покрытое плотным покровом растительности. Приятели, ошалело отплёвываясь, смотрели, как в полукилометре от них с ужасающим грохотом и стоном вздымается в небо гигантский купол из земли, бетона и воды. Секунду спустя на Антона и Чуму обрушился град мокрой грязи, бетонной крошки и кусков, с торчащими из них прутьями арматуры. И тут же тугая волна воздуха вновь опрокинула их на дорожку.
С трудом соображая, мальчики, протирали глаза от забившего их песка. Отняв кулаки от лиц, они вдруг увидели, как по лугу к ним стремительно катит высокий вал грязнопенной воды. В едином порыве, объятые ужасом, приятели, обдирая ногти, изо всех сил устремились на высокую насыпь, служившую природным водоразделом. Едва они взобрались на двухметровый вал, как подлетевшая волна с шипеньем хлестнула по её подножию. Обдав ребят брызгами, водяной вал отвалил влево по склону насыпи.
Насколько могли видеть Антон с Чумой, весь луг, только что покрытый изумрудно-зелёной травой, был словно изжёван гигантской пастью и заплёван грязной шипящей пеной, оставшейся после так же стремительно схлынувшей воды. Её остатки гулким водопадом низвергались в огромный провал более тридцати метров в диаметре. Тупо смотря на гигантскую воронку, Антон и Чума никак не могли сообразить, что бы это значило. Там, где раньше стоял бетонный капонир, сейчас ничего не было. Будто он в единый миг был срыт гигантским ковшом, а на его месте остался кратер, окаймлённый валом раздробленного бетона и земли. Мальчики, однако, не долго пребывали в состоянии прострации. Они чувствовали, что весь ужас остался позади. Шумно переведя дух, Антон сказал:
– Велик надо забрать.
Чума, глядя вниз, скроил недоумённую гримасу:
– А где он, велик–то?
Антон вскочил на ноги. И точно, велосипеда, оставшегося внизу у начала тропинки на месте не было.
– Что за чёрт!? Кто его мог утащить? – закричал он. – Пошли вниз, поищем, может, он скатился дальше.
– Не, давай сверху посмотрим, отсюда тоже хорошо видно, – боязливо протянул Чума. – Пошли. Приятели медленно двинулись по насыпи, внимательно разглядывая подножие вала. Метрах в сорока Антон заметил знакомые очертания и с криком: «Вон он», бросился вниз. Чума осторожно последовал за ним. Всем своим видом он показывал, что спешка сейчас не имеет значения и ноги ломать из-за какого-то велика не намерен. Велосипед был весь забит травой. Сквозь спицы торчали ветки кустарника, и руль был вывернут почти параллельно раме.
Антон угрюмо смотрел на это. В ответ на его мысли подал голос Чума:
– А если бы нас водой застало? Так же бы, небось, выворотнуло!..
– Может и так же… Жуть, как там рвануло! – Антон никак ещё не мог сопоставить взрыв и цель их поездки. И вдруг его прошибла холодная и вместе с тем горячая, как кипяток, мысль:
– Чума, да ведь там же Лёвка с Сорокой были! Там, где рвануло!
– Точно, мы ж туда шли!..
Приятели потрясённо смотрели друг не друга, только сейчас осознавая весь трагизм момента.
– И что же теперь будет!? Тошь, их же нужно спасать! – потеряно развёл руками Чума.
– Что будет!? Кого спасать, опомнись! Ничего не понял?! Гробанулись Лёвка с Сорокой, вот что! Ты что, слепой или дурак? Не видел, как там рвануло! – будто потоком ора прорвало Антона. Он, багровея лицом, кричал на Чуму. А тот, напротив, сознавая, что произошло и могло случиться с ними, бледнел всё больше.
– А если бы мы успели, или пошли с ними, то и мы… того… – прошептал он дрожащим голосом. До него дошла простая и вместе с тем страшная до икоты мысль. По крайней мере, Чума, выпучив глаза на Антона, три или четыре раза икнул.
– Всё, идём домой! – решительно сказал Антон. – Надо кому-нибудь сказать. Отцу Лёвки и дома у Сороки, они ведь не знают…
Подавленные и мрачные, ребята доехали до двора Антона и он, замявшись, спросил:
– Может в милиции всё рассказать, а то я у Лёвки боюсь.
– Во, точно, – облегчённо вздохнул Чума, – поехали туда. А то я тоже не хочу мамке Сороки говорить, мне её жалко – болеет она. В милиции молодой сержант, выслушав сбивчивый рассказ приятелей, попросил их посидеть тут же на стуле и, взяв трубку телефона, сказал:
– Товарищ капитан, тут двое парнишек пришли. Рассказали, что только что в старом форту подорвались двое ребят, их товарищи… Слышал, конечно, у нас тут стёкла дребезгнули, лампа закачалась… значит там. М-да, товарищ капитан, солидная начинка, видать, была…
Через пару минут переговоры были закончены. Сержант ответил:
– Есть товарищ капитан, взять Никитина, Собко и выехать на место немедленно. Пошли, ребята, прокатимся…
Весь остальной день был суматошным и раздёрган по кускам. Приехав в форт, они рассказали всё, что видели, про взрыв, волну и велосипед, который утащило водой на полсотни метров вбок от них. Антоша и Чума устали от объяснений, показаний и потом просто сидения в каких-то помещениях, где сновало много народу. Они видели, как мимо прошёл с тёмным, отрешённым лицом отец Лёвки, майор какой–то части, расквартированной в городе. Отпустили их домой только после обеда.
Расставаясь, приятели условились встретиться вечером у Антона во дворе. К этому времени там уже собралось много народу. Пацаны притихшей кучкой сбились вместе на одной из лавок. Слушая, как взрослые, сочувственно покачивая головами, делились новостями. Кое-кто из женщин вытирал уголком платка слёзы. Несколько человек стояли у подъезда, в котором жила семья Лёвки. Чувствовалось, что все чего–то ждут. Наконец с улицы послышался шум подъехавшей машины и несколько офицеров, среди которых был отец Лёвки, показались во дворе. К ним сразу потянулись с расспросами. Но любопытствующих отстранили и все прибывшие офицеры вошли в подъезд. Один из них, задержавшись, сказал что-то и тут же по толпе пробежало: «Никого не нашли... ничегошеньки... даже клочка одежды...».
За два дня, пока шли поиски, рота солдат и водолазы, обшарили все надводные и подводные закоулки. На третий день, обсудив ситуацию, пришли к выводу, что дальнейшие поиски бессмысленны. Взорвавшийся боезапас был, по-видимому, не обнаруженным вовремя вместительным складом снарядов или мин. Оставалась призрачная надежда, что тела мальчиков выбросило взрывной волной, но и это осталось не более чем несбыточной надеждой.
На поминках соседки, прерывисто вздыхая, печально шептали друг другу: «Какая судьба для матери... и похоронить-то сыночка нельзя... была-бы война, а то так...». Мужчины молча курили, и, опрокидывая очередную стопку с водкой, торопились заполнить рот закуской, как будто боясь проронить лишнее, ненужное слово. Мальчикам, близким друзьям Лёвки, накрыли стол на кухне. Ребята, подчиняясь общей горестно-траурной атмосфере, молча поглощали салаты, запивая чаем и ситром. Покончив со всем, что было на столе, набив карманы карамелью и пряниками, попрощавшись с матерью Лёвки, все гурьбой вышли на улицу. Заметивший было Славка, что, мол, «поминки вкусные, почаще бы так», получил от Антона подзатыльник и с тем все разошлись по домам.
Первое время ребята чувствовали, что в их компании как бы чего-то недостаёт. Места Лёвки с Сорокой на лавках пустовали, словно никто не желал их занимать, но молодость, торопясь жить, быстро забывает горечь утрат. И вот уже Лёвка с Сорокой, став частью прошлой жизни компании, обрели своё законное место в их пацаньем фольклоре.
Спустя какое-то время Антоша и Чума оказались рядом с фортом. Бросив взгляд с высоты насыпи на озеро, образовавшееся на месте взрыва, они думали о товарищах, оставшихся в своей сырой холодной могиле. Погребённые под тоннами земли, их тела стали напрасной, безвинной жертвой войны, которая до сих пор собирала свою скорбную дань…
Антон, смотря на место гибели своих друзей, никак не мог отделаться от мысли, что, не проспи он в то утро, лежать бы ему там, рядом с ними и никто никогда не нашёл бы его тело.
– Слышь, Чума, ты почему не поехал тогда с Лёвкой и Сорокой?
– А чё? – встрепенулся задумавшийся приятель. – Места у них на велике не было. Сорока на раме сидел, а багажник забит был лодкой и верёвками. Я сам плохо езжу на велике, да и нет у меня его. Я тебя стал ждать, а ты всё дрых и мамка твоя не пускала.
– А-а... – протянул Антон, – понятно! Значит, я спас тебя тогда? И сам спасся, потому что на меня сон какой-то напал, прямо встать не мог! Во дела!
– Знаешь, наверно, так богу было угодно, – оживился Чума. – Мне мамка рассказывала, что в детстве я сидел около дерева. Ветер был сильный, и кто-то вдруг сказал ей: «Поди, говорит, забери дитя из-под дерева...». Она обернулась - никого, но послушалась. Только она меня забрала, как дерево треснуло и свалилось прямо на то место, где сидел я. Так что меченый я, Тошка, на всю жисть и жить мне сто лет. Мамка мне так сказала.
Антон усмехнулся и промолчал, только подумал, что, проснись он в то утро пораньше, и никакая отметина не спасла бы ни Чуму, ни его...
Кончалось лето. Выдалось оно в этот год каким–то грустным. Не потому, что погибли ребята, и не потому, что тесно как-то им стало в привычном круге общения. Очень часто приятели стали замечать, как вдруг на середине разговора или увлекательного дела они, останавливаясь, замолкали и всё начинало валиться из рук. В такие моменты Антон с Чумой, не глядя в глаза друг другу, изобретая на ходу какой-нибудь предлог, наскоро прощались и разбредались по домам.
Придя домой, Антон забивался в угол дивана, и, лёжа так, часами смотрел в потолок, не понимая возникшей в его сердце неспокойной маеты. Иногда соскакивая с дивана, он принимался ходить по квартире из угла в угол, не находя себе места. Какое-то тревожно-томительное чувство, подступая к горлу, сжимая сердце, волновало его до слез. Что это было, он не мог понять! Иногда всплывали неясные образы, которые он тщетно пытался распознать. Временами ему казалось, что что-то очень важное и значительное, вот сейчас, сию минуту проходит мимо него, а он не знает, что это и потому не в силах удержать.
Мать, видя хандру Антона, прекрасно понимала, что с ним творится, и не вмешивалась в такие моменты с расспросами. Он взрослел, и что поделаешь с этим, – природа берёт своё! Но Антон ко всему, что определила его возрасту природа, умом понимал, что он стоит на пороге каких-то значимых для него событий. Они придут и определят всю его жизнь помимо его воли и желаний. Он так отчётливо это чувствовал, что, невольно сопротивляясь их приходу, старался остаться в своём нынешнем мире как можно ближе к нему. Он почему-то знал, что это счастье нынешних дней уже никогда не повторится и грядущее будет к нему только жёстче, страшнее и неласковее.
С Чумой при встречах они чаще теперь молчали, предпочитая обходиться парой ничего не значащих слов, но жизнь и молодость не терпели такой умудрённости, они были не совместимы с её принципом. Мальчики, пережив свой трепетный, удивительный период жизни, снова, будто и не было тех высоких материй чувств, окунулись в мир, данный им возрастом и природой…
Некий регламент свойств натуры был установлен им в разной степени помимо воли каждого. Антон был в конце лета и деятелен, и невозможно инертен, что приводило Чуму иногда в состояние отпетого противоречия. Ругались они с Антоном страшно, до изнеможения, до полного разрыва. Но было между ними что-то, связывающее их до мельчайших флюидов чувства и мысли. Мальчики не выдерживали и часа разлуки. Не в силах более сопротивляться этому притяжению, они бросались в объятия друг друга со слезами и клятвами в верности и дружбе навек.
Быть каждому без другого казалось мыслью до того кощунственной, что любое родительское упоминание о вредоносности влияния его дружка на светлую личность их дитяти приводило к страшному разрыву, скандалу и дням полного отрицания существования матери либо отца. Смерть Лёвки и Сороки по прошествии некоторого времени только укрепила их отношения. Приятели, никогда не упоминая тот страшный день, всё же иногда в разговоре, завидуя несчастным товарищам, считали их гибель красивой и героической. Погибнуть вместе, – что ещё было достойнее и прекраснее в дружбе! Они поклялись не расставаться до самой смерти, а если придётся умереть, – то только спина к спине, как подобает настоящим героям-бойцам!
Проводя все дни вместе, приятели, надеясь на будущее, считали, что весь нынешний порядок вещей незыблем, справедлив и установлен навсегда. Ни Антон, ни Чума не знали ещё, что самая главная истина в мире, в котором они жили, являет собой полную противоположность их представлениям о жизни, судьбах близких им людей и будущем. Непостоянство мира, его безразличие, тщетность людских надежд им предстояло ещё узнать, как горькие и трагические открытия. И ближе всех в этом ряду разочарований и потерь, стояло самое скорбное из всех чувств, которое вскоре изведал Антон в полной мере.
Глава 7
Предшкольные сборы Антон всегда встречал с энтузиазмом. Время, отдаваемое для покупок атрибутов предстоящего учебного года, приятели старались проводить как можно рациональнее. Они выкраивали немалую его толику для свободного полёта своей нерастраченной фантазии и избытка сил. Дни стояли изумительные, даже орехи, поспевающие немного позже, в этот раз налились к сроку. И особых коллизий во время их сбора не произошло, не случилось происшествий, сопутствующих, как обычно, ореховым битвам, и скорым темпом мальчики успели собрать немалый урожай. И когда всё закончилось, когда считанные денёчки оставались до школы, они вдруг потянулись медленно, тягуче, как патока. Вся кодла, измаявшись в тёплом августовском застое, изнывала от неопределённого безвременья. Заниматься чем-то стоящим и дельным, вроде постройки плота или землянок для потешных баталий не было времени, да и желания. Копаться в кладбищенской земле в поисках цинковой сетки было лень, и на всё в эти дни, в общем, находились оправдания вынужденной бездеятельности.
За неделю до начала школьных занятий случилось некое событие, всколыхнувшее всю окрестную братву. При сносе развалин многоэтажного дома были обнаружены останки нескольких советских солдат вперемежку с немецкими. Разбросанные рядом винтовки с примкнутыми штыками, сапёрные лопатки, кинжалы и ножи говорили о жестокой рукопашной схватке. Конечно же, разбор стен на время перезахоронения останков советских солдат были приостановлены. Всё оружие собрано и вывезено для уничтожения, но пацаны, исходя из своего обширнейшего опыта, не пали духом. Они знали, что, порывшись как следует во вскрытых бульдозером развалинах, можно найти ещё немало ценного и притягательного. Немедленно были организованы туда поисковые бригады от разных, конкурирующих между собой дворов. Проникая за огороженный участок завалов разбираемого здания, они рылись в каменной крошке, кусках щебня и разбитых в щепу деревянных балках. Дотошные старатели подбирали всё, что могло показаться ценным в их глазах.
Утварь и предметы быта были в такой же цене, что и найденные инструменты и ценности. Последние с ликованием извлекались из-под обломков и немедленно уносились домой, чтобы не ввергать других пацанов в соблазн вступить в права наследства по праву сильного. Такое частенько случалось. Нашедшего, положим, серебряную брошь с ярко-синими камнями счастливчика ждала незавидная участь быть ограбленным тут же, за забором развалин. Что же касалось остальной добычи, то пацаны имели немалый приварок от этого промысла. Старьёвщики охотно брали все приносимое ими за приличные деньги. Чума с Антоном, не щадя ногтей и коленей, бывало ободранных и сбитых в кровь, не жалели усилий и времени на столь лёгкий и доходный промысел.
На этот раз счастливых находок было немного. Чума, убеждая Антона не бросать поиски, приводил примеры прошлых удачных раскопов, когда никто не нашёл ничего, а он отхватил радио и продал старьёвщику за кучу денег. Антон соглашался и приятели снова, как кроты, перерывали метр за метром крошку и обломки.
В конце недели добровольной трудовой повинности погода испортилась. Низкие, быстромчащиеся тучи с Балтики принесли с собой морось, иногда оборачивающуюся мелким, секущим дождём. Сырой ветер, забивавший морось под полы курточек, за шиворот, прибитая водой пыль, ставшая неподатливо-тяжелой, не прибавляли энтузиазма. Но Чума всё же упорно тащил приятеля на развалины. Его невозможно было отговорить или отвлечь чем-то иным. Даже когда Антон, сказавшись больным, оставался дома, Чума с истовостью фанатика спешил на место раскопок. Его словно влекла туда необъяснимая, роковая сила.
Антон, уже потерявший всякий интерес, попытался было отговорить своего зацикленного приятеля от бесполезной траты времени, но Чума, будто его и не слышал. Он думал и говорил только о своих найденных, ничего не значащих вещицах, вроде кусков цветного стекла от вдребезги разбитого абажура и прочего хлама. Всё время твердя, что вот-вот откопает стоящее, он сразу окупит всё и уж тогда-то Антон пожалеет, что не пошёл с ним. И в самом деле, его поиски вдруг дали неожиданный результат. Вызвав рано утром Антона на улицу, Чума с лихорадочно блестевшими глазами объявил ему, что нашёл в развалинах три противотанковые мины. В руках Чума держал холщовый мешок. Торопливо объясняя ситуацию, он сказал, что припрятанные мины поднять ему не под силу и Антон срочно должен идти с ним, пока кто-нибудь их не обнаружит. Антон, сразу сообразивший все выгоды такой находки, мигом надев на себя курточку, тайком выскочил из дома и как на крыльях полетел за Чумой.
Мины сами по себе не представляли ценности, но тол, которыми они были начинены, являл собой самое настоящее сокровище. Выплавленный из корпуса, он превращался в самую ценную валюту. Его охотно скупали все рыбаки. Делая из него шашки, они, таким образом, превращали свой нелёгкий рыбацкий труд в увеселительную прогулку за приличным уловом.
Среди мальчишек такая практика существовала давно. В сапёрном деле многие из них были настоящими доками. Все они знали первый закон этого дела, – сапёр ошибается только один раз, но, по необъяснимому мальчишескому максимализму, никто его на свой счёт не относил. Иронически кривя губы каждый из них при известии о несчастном, подорвавшемся при попытке выплавить начинку мины или снаряда, пренебрежительно жалели неумеху-пацана. Антону тоже случалось присутствовать при сём действе. И сейчас он был полон решимости добыть ценный товар немедленно. Чуму, отлично знавшего стоимость такого количества тола и рыбаков, которые возьмут у него взрывчатку, прямо-таки трясло от возбуждения. Подстёгиваемые меркантильным интересом, но, тем не менее, со всеми предосторожностями, приятели упаковали находку в мешок. С превеликой аккуратностью кантуя свой груз на весу, они направились к месту будущей операции по извлечению минной начинки, а именно на кладбище.
Утро, как все предыдущие дни, было наполнено сырой, промозглой прохладой, но приятелям казалось, что воздух вокруг них дышал им в лицо жаром пустыни. С остановками, осторожным неторопливым шагом, мальчики несли свой смертоносный груз. Кладя его на землю, чтобы поменяться руками и передохнуть, они обсуждали детали предстоящего дела. Идти было недалеко. Ровно через полчаса такой ходьбы показался угол кладбища. Завидев место проведения операции, они невольно прибавили шагу и спустя пару минут ребята подошли к главной аллее.
Решив сделать последнюю остановку, они опустили поклажу на землю. Антон предложил заняться делом в очень подходящем месте, благо и было до него близко и достаточно хорошо укрыто от любопытных взглядов. Чума был согласен на всё, только бы поскорее приступить к делу. Он только было раскрыл рот, чтобы выразить своё полное согласие с планом Антона, как мальчики услышали:
– Эй, парни!
Обернувшись на голос, ребята увидели высокого мужчину, стоявшего на другой стороне улицы. Он был в сером, пепельного цвета дождевике, с капюшоном, надетым на голову,
– Да-да, это я вас зову. Слушай, вон ты, в вельветовой курточке, Антоном тебя зовут?
– Да, меня, – озадаченно ответил Антон.
– Тебя мать срочно зовёт домой, она попросила позвать тебя, только иди сейчас же! Слышишь?
– Ну, слышу! – с досадой отозвался Антон. – Вот зараза, как не вовремя! Чума, ты подожди меня. – И обернувшись к мужчине, крикнул: – Приятелю помогу мешок донести и иду.
– Ладно, я тебя подожду, – и, ступив с тротуара на брусчатку, мужчина направился к ним.
– Давай, быстрей, – заторопил Антон Чуму, – а то ещё полезет в мешок.
Они, подхватив свой груз, свернули на боковую аллейку и через несколько метров опустили его около ямы, оставшейся от могилы. Антон сказал:
– Ты сверли пока, а я матери скажу, что мне надо срочно в школу, – и бегом направился назад. Мужчина стоял у входа в аллейку. Подождав, когда Антон подойдёт, он сказал:
– Поторапливайся, мать сердится очень, что ты ушёл, не предупредив её. Ну, беги, – и, легонько подтолкнув Антона в спину, зашагал прочь.
Дома Антон, встретив мать всю в хлопотах, спросил:
– Мам, ты чего меня звала? Мне дядька какой-то сказал.
– Не звала я тебя… некогда мне. Ну, всё равно хорошо, что пришёл. Я на работу опаздываю, у меня третья пара в техникуме. Димку накорми…
– Ма-а, ну чего я всё… – протянул недовольный Антон, – Славка не может, что ли?
– Славик болеет, а ты дурака валяешь! Без разговоров мне, иди Димку корми! – прикрикнула мать, торопливо собирая сумку.
Антон раздражённо буркнул: «Ладно». Схватив поперёк туловища вертевшегося рядом младшего брата, он направился к столу. Усадив Димку за стол, Антон повязал ему вокруг шеи салфетку, и только было взялся за ложку, как громовый удар сотряс весь дом. Полетели стекла из рам, рассыпавшись на мелкие осколки по комнате. Зазвенела посуда и Антон, пригнувшись к столу, инстинктивно закрыл собой Димку. Мать, испуганно вскрикнув, подбежала к ним и оттащила Антона с младшим от окна. Перепуганный Славка тихонько подвывал из-под кровати, под которую он так стремглав скатился, как будто его туда зашвырнуло потоком воздуха, ворвавшимся в комнату.
В первый миг Антон застыл столбом. Ещё не осознав, что это было, он в следующее мгновение стремглав выскочил из комнаты. Не слыша криков матери ему вслед, он мчался к кладбищу, подстёгиваемый страшной короткой мыслью: «Чума!..».
Над всем кладбищем плавали клубы синеватого дыма. Листья, медленно кружась, опадали с деревьев на засыпанные песком и изломанной туей аллейки. На тротуаре по другую сторону кладбища он видел высыпавших из прилегавших к нему домов испуганных, встревоженных людей. Некоторые держали у посечённых осколками оконного стекла лиц тряпки, на которых расплывались ярко-алые пятна.
Антон, подбегая к знакомому месту, всё более замедлял бег. Места, которое он знал как самого себя, где проводил времени столько же, что и дома, больше не было. Недоумённо озираясь, он, осторожно перешагивая через крошево веток, мраморных осколков и песка, подошёл к огромной воронке. Ступив на её край, Антон увидел на дне ямы глубиной с его рост обломки торчащего гроба. Песок, с тихим шуршанием вытекал из-под его ног и струйками изливался на потемневшие гробовые доски. Стояла необычайная тишина, как будто все вокруг сознавало значительность события.
– Чума, ты где? Вить, а Вить?.. – почему-то шёпотом позвал Антон дружка.
Оторвав взгляд от дна воронки, Антон, поднял голову. Прямо перед собой, в пяти метрах в развилке ствола разбитого дерева, он увидел некую бесформенную, красно-белую массу, обёрнутую в такого же, густо-красного цвета, тряпки. Притягиваемый, как под гипнозом, этим страшным комом, Антон обошёл воронку. Приблизившись, он, потрясённый застыл в метре от жуткого предмета. Антон не сразу даже понял, что лежит перед ним: обрубок маленького туловища, который венчала голова с расколотым черепом. Один глаз вывалился и висел на кровавой ниточке. Другой глаз, совсем как у Чумы, глядел на него, пристально и не мигая.
В глазах Антона всё вдруг потемнело. В голове словно звенькнула тонкая струна. Земля поплыла вокруг него, повернулась куда-то вверх и в следующий миг накрыла собой. Удара о землю Антон уже не почувствовал. Набежавшие следом люди увидели около воронки, накрепко вбитые в развилку ствола берёзы изуродованные останки маленького тела и мальчишку, лежавшего ничком в метре от кровавых ошмётков. «Этот ещё дышит... воды дайте... рвануло-то как...», – раздались вокруг голоса. Склонившийся над телом мальчика какой-то мужчина, выверенным движением прощупал пульс, расстегнул на мальчишке воротник рубашки. Тыльной стороной ладони он легонько постучал по щеке Антона. Не дождавшись реакции, мужчина снял с себя дождевик, переложил Антона на него и, обернувшись к обступившим его людям, сказал:
– Он жив, но в глубоком обмороке. Я знаю, где он живёт и отнесу его домой.
Женщины загалдели что-то о скорой помощи, о больнице, но он, не слушая никого, поднял Антона и протиснулся сквозь сгрудившихся людей...
Антон проболел после этого почти месяц. Лежа в кровати, как бесчувственная кукла, не реагируя ни на что, он отрешённо разглядывал какую-то точку где-то на потолке. Доктора разводили руками, прописывая успокоительные капли, какие–то микстуры и в один голос твердили матери: «тяжёлое потрясение, необходимо время…, организм молодой и психика справится…». Славка с опасливым недоумением сторонился старшего брата. Димка же, напротив, залезал к нему в постель, ложился рядом под одеяло и, прижавшись к Антону, надолго замирал. Мать, поглаживая его по голове, подолгу разговаривала с сыном, украдкой пальцем смахивая слезу. Отец угрюмо молчал, но иногда, подсаживаясь поближе, рассказывал свои военные приключения. Время шло и Антон постепенно стал живее откликаться на просьбы матери, отвечать на вопросы отца, реагировать на суету братьев.
О школе на полгода пришлось забыть. Позже, как Антон начал вставать, соседская девчонка забегала к ним, принося школьные задания. Это постепенно вовлекло его в обычный ритм жизни. С ребятами во дворе он все больше молчал, сидя в стороне. Все их попытки расшевелить, вовлечь в игры неизменно оканчивались равнодушным отнекиванием. Он и сам не понимал, что с ним приключилось. Всё вокруг будто посерело, стало пресным и утратило свой прежний интерес. Антон с мрачным недоумением смотрел на забавы своих сверстников. Иногда усмешка кривила его губы. О Чуме он не вспоминал. Не оттого, что забыл годы теснейшей дружбы. Но каждый раз при мысли о своём дружке к его горлу подкатывал комок, и стремительно накатывающаяся головная боль не давали ему такой возможности.
Может быть после нескольких внезапных истерик он научился сам обрубать попытки памяти вспомнить о своём приятеле. Или подсознание инстинктивно выработало свой барьер. Так или иначе, Антон с тех пор впервые в своей жизни обнаружил в своём сердце маленький, крохотный кусочек пустоты, задев который, он ощущал щемящую боль и тоску….
Как-то весной мать попросила сходить его в магазин за хлебом. Шёл нудный, нескончаемый дождь. Антон, накинув на себя куртку, вознамерился было так добежать до магазина, но мать не выпустила его из дома. Пошарив на вешалке, она сняла с неё какой–то плащ и, протянув Антону, сказала:
– Надевай.
Антон с недоумением развернул вместительный дождевик и взглянул на мать:
– Так он же здоровый на меня! Откуда он? У папы такого не было.
– Это не отцовский, – нетерпеливо ответила мать. – Он остался от того мужчины, который принёс тебя в нем с кладбища. Он его забыл у нас, да так и не вернулся за плащом. Всё, иди скорее!
Антон повертел дождевик, надел на себя и, утонув в нём, воскликнул:
– Да как же я пойду, он по земле волочится!
– Руками подбери и иди! Кто тебя там сейчас увидит!
Мать сунула ему в руки сумку и добавила:
– Я потом тебе его перешью. Думала, что за ним придут, но наверное о нём тот мужчина забыл.
Два года Антон носил этот перешитый матерью плащ. После него плащ достался Славке. И Димка успел поносить этот удивительно прочный, из какой–то добротной ткани, дождевик, пока обновки не вытеснили его в дальний угол, откуда он сгинул тихо и незаметно.
Вскоре отец получил новое назначение, и семья принялась за сборы. Предстоял долгий и нелёгкий путь. Добра они накопили много. Мать, как истая хозяйка, знавшая цену каждой вещи, добытой непомерным трудом, не захотела расставаться ни с чем из нажитого. Отец много раз ходил на станцию к начальству, хлопотал о выделении товарного вагона, чтобы перевезти имущество. Наконец, после долгих проволочек и просьб, ему, как инвалиду войны было сделано исключение. Вся семья, погрузив свой скарб, отправилась в этом же товарном вагончике, больше похожем на теплушку, в свой долгий, утомительный вояж вглубь России.
Перед отъездом Антон, никому не сказав ни слова, поднявшись рано утром, ушёл на кладбище. Так случилось, что он не был на похоронах друга. Выздоровев, он никогда не бывал там, боясь возвращения измотавшей его болезни.
Антон проблуждал довольно долго, пока нашёл могилу. Стоя перед провалившимся, заросшим сухим бурьяном и залитым водой местом упокоения своего друга, он не чувствовал, что стоит перед могилой Чумы. Ему всё казалось, что Витька вдруг окликнет его сзади и Антон, крепко взяв его за руку, помчится, как и раньше, с весёлым гиканьем, насмехаясь над самой мыслью, что жизнь когда-нибудь кончится!..
Он стоял, припоминая то, что осталось в его памяти, как неотъемлемо принадлежащее его другу. Былые дни приходили на память легко. Он снова ощущал их невыразимую прелесть, ту прежнюю свежесть чувств, оставшихся в его сердце навсегда. И странно было ему чувствовать их соседство с тем маленьким, крохотным кусочком пустоты, давшим ему в жизни неизведанное чувство сладкой, щемящей боли и светлой тоски. «Прощай, друг! Прощай Витя Чумаков!..».
Антон протянул руку к могиле и разжал пальцы. В воде тихо, но, вместе с тем, ясно и звонко булькнуло, и вода сомкнулась над выроненным предметом. Сквозь кристальный слой была видна, отливающая горячим жёлтым блеском патронная гильза. В неё, известное только им, дружкам навечно, была вложена небольшая, свёрнутая рулончиком бумажка, на которой были написаны три слова: «Другу навек! Виктор». Приятели носили их с собой всегда, дав друг другу клятву не расставаться с медальоном никогда. Где был медальон Виктора Антон не знал. Но сейчас, повинуясь безотчётному чувству, снял с себя дар друга и вернул ему то, с помощью чего уже никогда, он чувствовал это, не обрести в оставшейся жизни – такую же беззаветную дружбу. Вернулся он домой молчаливый и сосредоточенный. Мать с отцом то ли догадались, где он был, то ли почувствовали это, но с расспросами не приставали…
Антону это путешествие запомнилось надолго. Товарный состав двигался неспешно, со многими остановками, бесконечными переформированиями и стоянками где-нибудь на забытых полустанках. А на длинных перегонах отец открывал двери вагона и врывающийся тёплый летний ветер тугими струями бил в разгоряченные лица Антона и его братьев. Много в том пути Антон услышал от отца, которому и теплушка, и товарняк, и даже открытые двери вагона напоминали дни его военной поры.
Случалось в пути быть и страшным моментам, от которых кровь стыла в жилах, и страх захлёстывал разум. Когда состав, набравший на перегоне ход, несся во тьму ночи, сотрясая и раскачивая их вагончик так, что вещи, срывались с мест и, словно живые, гонялись друг за другом ему казалось, что сейчас под их вагоном разверзнется земля и они исчезнут в адском провале. И никаких силёнок Антона, матери и одноногого отца не хватало, чтобы усмирить эту сатанинскую пляску.
Часто Антон, смотря на убегающие прочь неброские пейзажи, никак не мог понять, что же такое творится в его душе. Он почти физически ощущал, что с каждой минутой поезд уносит кого-то другого, а тот мальчик, который был так близок и понятен ему, остался навечно только в его памяти. И уже никогда потом, во все оставшиеся дни свои, Антон не ощущал такого накала и полноты жизни, что довелось ему испытать на тех зелёных берегах светлоструйной реки Писсы.